Окна из алюминия в Севастополе — это новые возможности при остеклении больших площадей и сложных форм. Смотрите отзывы.
Страницы сайта поэта Иосифа Бродского (1940-1996)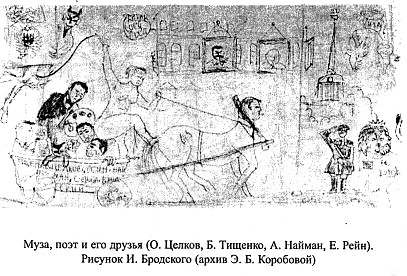
Источник: Е.Петрушанская. Музыкальный мир Иосифа Бродского. С-Пб.: журнал "Звезда", 2007. Шимон Маркиш. “Иудей и Еллин”? “Ни Иудей, ни Еллин”?Когда Бродский прилетел в Стокгольм за своей Нобелевской премией, в аэропорту сама собой устроилась импровизированная пресс-конференция, и кто-то из журналистов спросил: вот вы американский гражданин, живете в Америке, и вы русский поэт и премию получаете за русские стихи — кто же вы? американец? русский? — Я еврей, — ответил Бродский. (Мне помнится, что примерно таким же образом отвечал он и в иных случаях; все эти “случаи” — публичные, то есть выходившие в печать с согласия Бродского или хотя бы без возражений с его стороны.) Люди, определяющие себя преимущественно или исключительно через понятие русского патриотизма, отказывают Бродскому в праве не только что называться русским поэтом, но и писать по-русски: пусть, дескать, пишет на родном языке, то есть, по всей вероятности и в согласии с патриотической логикой, на еврейском. Доброжелатели и поклонники Бродского этой стороны его личности (и творчества), сколько мне известно, не касаются. Несомненно — из лучших побуждений. Наконец, евреи, то есть те из них, кто не только родился евреем, но и желает им оставаться, не преминут уточнить, отметить хоть уголком сознания: “из наших”. 208 Увы, двухвековая, по меньшей мере, привычка выискивать “близких” среди отдалившихся и совсем далеких, привычка, где-то граничащая с русской патриотической шизофренией. Но если попытаться заглянуть поглубже, оказываешься перед вопросом куда более общим — о еврейском “вкладе” в культуры окружающих большинств, для кого положительном, созидательном, плодотворном, для кого безусловно отрицательном. Вопрос, которым задаются многие тысячи книг и статей, докладов и симпозиумов, ученых мужей и вурдалаков. Оговорюсь незамедлительно: сама постановка вопроса мне кажется неверной. Чужак, пришелец либо становится “своим”, и тогда его “вклад” есть нечто сугубо персональное, как и любого “коренного”, “исконно-посконного”, либо не становится, и тогда ни о каком “вкладе” и речи быть не может. В истории русской фольклористики Павел Шейн, принявший в молодости лютеранство, чтобы спастись от духоты черты, — такой же “вклад”, как Александр Афанасьев или Иван Сахаров, русейшие из русских. (Примеров неудачи приводить не стану по причине неизбежной их субъективности, а стало быть, и неубедительности, необязательности.) Культурологической проблемы здесь, как мне видится, нет, зато психологическая может быть острой даже и до нестерпимости. Речь идет о самоощущении пришельца и, в меньшей мере, о реакции на него этносоциальной среды, его принимающей (или отвергающей). Случай Мандельштама, колеблющегося между ужасом перед “хаосом иудейским” и гордостью “почетным званием иудея”; случай Пастернака, ненавидевшего свое происхождение и признавашегося в этой ненависти Горькому еще в 1927, а после войны, то есть после Освенцима, призывавшего евреев “разойтись”, исчезнуть, дабы не мешать счастью всего человечества, — эти два случая, вероятно, самые известные. Ими и ограничимся. Прежде всего потому, что к Бродскому эта психологическая коллизия отношения не имеет. Степень иудейской озабоченности (позволим себе чуть перефразировать Мандельштама) не зависит впрямую ни от укорененности в еврейской цивилизации, ни от принадлежности к тому или иному поколению, хотя, разумеется, у обрусевших в первом-втором колене (как тот же Мандельштам, как Борис Слуцкий и Давид Самойлов) она должна быть выше, чем у родившихся в шес- 209 тидесятых или семидесятых. Но ведь сегодня и совсем юные, которых с еврейством не связывало ничего, кроме грязной брани дворового, или уличного, или школьного отребья, вдруг — случается — вспыхивают неукротимым интересом, а не только страстью к своему прошлому, своей религии, своему государству. А в этом самом прошлом сыновьям прославленных раввинов, отцов-основателей сионизма, столпов и устоев еврейских литератур случалось уходить, не оборачиваясь, не сожалея, не вспоминая. Видимо, и здесь индивидуальное, личностное берет верх над родовым. Надо полагать, любой читатель Бродского согласится, что таких ослепительных личностей, таких ни с кем не схожих, никому и ничему не подчиняющихся индивидуальностей в русской поэзии можно сосчитать по пальцам одной руки. Смею полагать, что в этой уникальной поэтической личности еврейской грани не было вовсе. Еврейской темы, еврейского “материала” поэт Иосиф Бродский не знает — этот “материал” ему чужой. Юношеское, почти детское “Еврейское кладбище около Ленинграда...” (1958) — не в счет: по всем показателям это еще не Бродский, это как бы Борис Слуцкий, которого из поэтической родословной Бродского не выбросить; как видно, и обаяния “еврейского Слуцкого” Бродский не избежал, но только на миг, на разочек. “Исаак и Авраам” (1963) — сочинение еврейское не в большей мере, чем “Потерянный рай” Мильтона, или “Каин” Байрона, или библейские сюжеты Ахматовой:. вполне естественное и вполне законное освоение культурного пространства европейской, иудео-христианской цивилизации. И то же — “Сонет” (“Прислушиваясь к грозным голосам...”, 1964) с использованием топосов Исхода; отметим кстати, что к толике еврейской Библии Бродский обращается очень скупо, чтобы не сказать — в исключительных случаях. Остается лишь второй номер из “Литовского дивертисмента” (1971), озаглавленный “Леиклос”, по названию улицы в бывшем еврейском квартале Вильнюса, и, мне кажется, позволяющей если не разгадать, то, по крайней мере, нащупать: Родиться бы сто лет назад и сохнущей поверх перины глазеть в окно и видеть сад, кресты двуглавой Катарины; 210 стыдиться матери, икать от наведенного лорнета, тележку с рухлядью толкать по желтым переулкам гетто; вздыхать, накрывшись с головой, о польских барышнях, к примеру; дождаться Первой мировой и пасть в Галиции — за Веру Царя, Отечество, — а нет, так пейсы переделать в бачки и перебраться в Новый Свет, блюя в Атлантику от качки. Это, сколько я способен судить, единственный случай, когда Бродский-поэт вглядывается в свое происхождение. Впрочем, “вглядывается” — преувеличение: “скользит взглядом”, “замечает” — будет вернее. Если вычесть обычную самоиронию, взгляд спокоен почти что олимпийски: даже намека нет на вышеназванную озабоченность у перечисленных выше поэтов или, скажем, у Багрицкого (в хорошо известном стихотворении, которое так и озаглавлено, — “Происхождение”). Еврейское происхождение — житейское обстоятельство (одно из!), эмоционально не нагруженное, нейтральное, тут нечего стыдиться и нечем гордиться, но, прежде всего, нечего скрывать. Еврейство принимается без рассуждений, но выносится за скобки главного и сущностного, а именно поэзии и — шире — культуры. Гипотетическая же судьба, сдвинутая на столетие назад, никак с поэзией не пересекается — ни в российском варианте, ни в американском. Но зато и ужаса не внушает. Любопытно в этой связи сопоставить два отрывка из “Римских элегий” (1981): Для бездомного торса и праздных граблей Ничего нет ближе, чем вид развалин. Да и они в ломаном “р” еврея Узнают себя тоже; только слюнным раствором И скрепляешь осколки... и ниже ... и в горячей полости горла холодным перлом перекатывается Гораций. 211 Еврейская картавость и не смущает и не радует, она отмечается (скорее — бесстрастно) и используется для сравнения (скорее — тоже бесстрастного, “головного”). Более всего это наблюдение над собственной артикуляцией. Когда же дело идет о произнесении латинских стихов, появляется категория оценки, и к тому же — восторженной. Потому что Гораций — латынь — Римская империя — античность — все это составляет неисчерпаемой тучности чернозем культуры; есть в нем и другие ингредиенты, но еврейства как такового среди них нет. И это не то чтобы принцип или убеждение Иосифа Бродского, — это его практика, его работа, его стихи. В телефильме “Прогулки с Бродским”, снятом русскими незадолго до смерти протагониста, последний цитирует свое частное письмо, разъясняя, что находит удачной найденную в ней формулировку: “...я чувствую себя “лесным братом” с примесью античности и литературы абсурда”. В трехчленный итог из традиционных, организующих, структурирующих начал попало только одно — языческая древность, “еллинство”, которое у Бродского выступает чаще в римском обличье, больше в тоге и тунике, нежели в хитоне. Но ведь уже за тридцать лет до того было заявлено: “Я заражен нормальным классицизмом” (“Одной поэтессе”, 1965), и несмотря на все ту же неизбежную иронию и автоиронию, всерьез не только “я заражен”, но и “нормальным”, потому что зачарованность Римом (и Грецией) — норма для поэта и поэзии — любого поэта, всякой поэзии. И в аккурат посередине этого тридцатилетия зараженность-зачарованность подтверждается с силою, с напором, с восторгом, неординарными даже для Бродского: Я—в Риме, где светит солнце! Я, пасынок державы дикой с разбитой мордой, Другой, не менее великой, приемыш гордый, — я счастлив в этой колыбели Муз, Права, Граций, где Назо и Вергилий пели, вещал Гораций. 212 Попрубуем же отстраниться, Взять век в кавычки. Быть может, и в мои страницы, как в их таблички, кириллицею не побрезгав и без ущерба для зренья, главная из Резвых взглянет — Эвтерпа. “Пъяцца Маттеи”, 1981 Эта тема — античность в поэзии Бродского — необъятная и неисчерпаемая. Я на нее и не покушаюсь: ею займутся (а может, и уже занимаются) ученые, к числу которых себя не отношу. Я касаюсь лишь ее краешка, который как-то сопрягается со словами, вынесенными мною в заголовок. “Как-то” — потому что в апостольских посланиях, откуда они заимствованы (“К Римлянам”, “К Галатам”, “К Колоссянам”), различающий признак — религиозный, в нашем же случае речь идет не о религии и даже не о вере. Скорее — о верности. Верность культуре — самая высокая и непреложная. Может быть — по натуре, от природы; может быть — по наследству от Мандельштама; а может быть — в ответ на вызов нового варварства, особенно наглый и агрессивный на родине Бродского, в Советском Союзе; или по всем трем причинам, сложенным вместе, и еще по каким-то мною не замеченным. Но как бы то ни было, “еллинство” — это и страсть Бродского, и его зрячая любовь, его сознательный выбор, образ, с которым он себя отождествляет всего охотнее. ( Не сказать ли: идея, типа платоновской, из которой он себя выводит?) Но пламенная верность одному не исключает холодноватой, но вполне органической, ненатужной чему-то иному. “Иудейству”, понимаемому (ощущаемому?) как происхождение, этническая принадлежность. Откуда ее естественность, спокойная уверенность в себе, не нуждающаяся в чужом одобрении, не замечающая косых взглядов? Конечно, от изначальной ясности ситуации: русский, как все, но вдобавок еврей. Вроде того, что мальчик, как все, но вдобавок рыжий. Такой ясности не знало ни поколение Мандельштама, ни поколение Слуцкого. Но сама по себе — как каждому из нас известно по собственному опыту — сама по себе ясность еще ничему не порука, она лишь необходимая предпо- 213 сылка. Безмятежное, то есть без восторгов, но и без проклятий, приятие своего “иудейства”, некоего неизвестного, но и неизбежного в уравнении жизни, дается лишь избранному меньшинству, крохотному меньшинству, считанным Личностям. (Разумеется, и здесь, как и выше, я имею в виду поэтическую литературную личность, которую поэт добровольно, умышленно и сознательно выставляет читателю на обозрение и умозрение. Воспоминания (“Он мне сказал...”, “Я слышал от него...” и т. п.) решительно исключаются. Во-первых — по ненадежности, но главное — Бродский всегда настаивал на том, что его жизнь принадлежит ему, и только ему, и если он кого дарил своей откровенностью, то тиражировать ее — грех перед умершим.) Значит — “иудей”. Хотя совсем не так и не такой, как хотелось бы евреям национально ориентированным или (и) соблюдающим религиозную традицию. Впрочем ведь и “еллин” совершенно “не такой”! Ученые покажут (а может, и уже показали?), насколько рецепция античности у Бродского не входит ни в какие известные ранее матрицы — ни в классицистскую, ни в романтическую, ни в модернистскую (в самом широком смысле этого худо поддающегося определению понятия). Остается вторая половина моего заголовка. (По нынешним временам, пожалуй, и нет нужды в отсылке: “Послание к Колоссянам”, 3:11.) В принципе — опять-таки по нынешним временам — она может первой и не противоречить: вон ведь и покойный протоиерей Александр Мень, и благополучно здравствующий архиепископ Парижский кардинал Жан-Мари Люстиже не усматривают противоречия в “двойном статусе”, на который они притязают, — христианский священник и еврей. Мы не станем ввязываться в дискуссию, возможно ли, приняв крещение, оставаться, или по крайней мере, продолжать считать себя евреем, — прежде всего потому, что это проблема не литературная, а, грубо говоря, житейская. В поэзию же Бродского — поэзию культуры — христианство не могло не войти; оно и входит, но — довольно скупо по сравнению с тем же “еллинством”. Если еще в первой половине шестидесятых он обронил походя: ...Спеша за метафорой в древний мир... 214 (“Письмо в бутылке”, 1964), то ничего подобного о христианстве в целом или о любом из его изводов он обронить бы не мог. Из ангельских топосов любимейший — Рождество, и ему, за несколькими исключениями, посвящены все “христианские стихотворения” Иосифа Бродского. Выводить из них Бродского-христианина (или христианского поэта) мне кажется столь же произвольным, как если бы кто заговорил о христианстве Шагала, ссылаясь на витражи в церквях Меца и Цюриха. А что до веры или неверия смертного и уже ушедшего от нас в. вечность свою Иосифа Бродского, единственное, что подобает, — это почтительное молчание. Джордж Л.Клайн[4]. История двух книгПодобно большинству американцев я никогда не слыхал об Иосифе Бродском до кафкианского процесса в феврале—марте 1964 года, когда его судили за “тунеядство”. Во время моей первой командировки в Советский Союз (1956) он был подростком, не начинавшим всерьез писать стихи. Ко времени моего второго и третьего визитов (1957 и 1960) Бродский уже написал некоторое количество стихотворений, но в тот самиздат, с которым я был знаком, они еще не проникли. Даже в августе 1964 года все, что я видел, были два коротеньких стихотворения, кое-как переведенные на ___________ Джордж Л.Клайн — летчик-ветеран Второй мировой войны, один из ведущих американских специалистов по истории русской философии и переводчик русской поэзии. — Прим. Л.Лосева. При подготовке этих воспоминаний я перечитал свою обширную переписку шестидесятых— семидесятых годов с друзьями и знакомыми, которые уже ушли от нас: У.Х.Оденом, Борисом Филипповым, Амандой Хэйт, Максом Хейуордом, Френсисом Линдси и Карлом Проффером. Также была перечитана переписка с ныне здравствующими друзьями и коллегами: Верой Сандомирской-Данем, Фейт Уигзелл Кич, Эдвардом Клайном, Никосом Стангосом и Теофанисом Ставру. В октябре 1996 года мне удалось сверить некоторые детали в телефонных разговорах с Майклом Керраном, Эдвардом Клайном и Анатолием Найманом. Всем им я глубоко благодарен. — Прим.Дж. Клайна. 216 английский и опубликованные вместе со стенограммой суда над Бродским в нью-йоркском журнале “Нью Лидер”. Из стенограммы и этих стихотворений можно было понять, что Бродский смелая и независимая личность, с которой жестоко расправилось государство. Но составить мнение о нем как о поэте по этим переводам было никак нельзя. Все переменилось в декабре того же года, когда я познакомился в Варшаве с Северином Поляком, выдающимся польским критиком и переводчиком Пастернака и Ахматовой. После того как мы поговорили о поэтах старшего поколения, со многими из которых он был знаком лично, он опросил меня, что я думаю о молодых, таких, как Бродский. Услышав, что из творчества Бродского я почти ничего не знаю, Поляк вытащил из кипы рукописей на столе листки папиросной бумаги, слабую машинописную копию “Большой элегии Джону Донну” (1963). Прошло тридцать два года, но я и сейчас ясно помню ошеломляющее впечатление от первых строк и короткого отрывка в конце этого мощного стихотворения — все, что я успел тогда прочитать. Наверное, я должен объяснить, что в первые годы работы в колледже Бринмор (1959—1964) мои преподавательские обязанности делились так: две трети на кафедре философии и одна треть на русской кафедре. Я читал курсы русской философии, но также курсы по русской литературе конца XIX и XX века. В последний включалось немало поэтов — Блок, Маяковский, Есенин, Ахматова, Пастернак и Цветаева. Поэзию я любил издавна — английскую, немецкую, итальянскую, русскую. Во всяком случае, я сразу же понял, что автор “Большой элегии” крупный русский поэт. Особенно вот эти места прозвучали для меня как откровение небесное: Джон Донн уснул, уснуло всё вокруг. Уснули стены, пол, постель, картины, уснули стол, ковры, засовы, крюк, весь гардероб, буфет, свеча, гардины. Уснуло всё. Бутыль, стакан, тазы, хлеб, хлебный нож, фарфор, хрусталь, посуда... .................................................................................... Подобье птиц, и он проснется днем. Сейчас — лежит под покрывалом белым, покуда сшито снегом, сшито сном пространство меж душой и спящим телом. 217 И несколько дней спустя, когда я уезжал из Варшавы, это стихотворение, экземпляр которого мне не удалось получить, преследовало меня как наваждение. В январе 1965 я написал таким осведомленным друзьям, как Виктор Эрлих, профессор русской литературы в Йеле, Макс Хейуорд, выдающийся переводчик Синявского и Пастернака (а позднее и Надежды Мандельштам) в Оксфорде, а также Вера Сандомирская-Данем, профессор русской литературы в мичиганском университете Уэйн, известный переводчик Андрея Вознесенского. Именно Вера и прислала мне экземпляр “Большой элегии”, полученный ею в феврале 1965 года через московского знакомого. Еще примерно месяц спустя в Америке вышла книга Иосифа Бродского “Стихотворения и поэмы”, в которой я тоже обнаружил текст “Большой элегии”. В течение нескольких недель я перевел это длинное стихотворение, а также три покороче. Они были напечатаны в весеннем выпуске 1965 года журнала “Трехквартальник”, издававшегося при Северо-западном Университете. Этот журнал не следует путать с “Трехквартальником русской литературы”, который несколько лет спустя начали издавать Карл и Эллендея Проффер. В этом последнем журнале в начале семидесятых годов появилось несколько русских текстов и английских переводов стихов Бродского. Моя следующая поездка в СССР в июле 1966 была неожиданно прервана семейными обстоятельствами, и до Ленинграда я не добрался. Я очутился там только в августе следующего года и отправил Бродскому по почте оттиск исправленного варианта моего перевода “Большой элегии Джону Донну” из публикации в “Рашн ревью” в октябре 1965 года. В качестве обратного адреса я указал гостиницу и мой номер. Три дня спустя меня разбудил телефонный звонок в полвторого ночи. Это был Бродский, он приглашал меня зайти к нему на следующий день в его, теперь знаменитые, “полторы комнаты”. Его первыми словами, когда я протянул ему руку в открывшуюся дверь, были: “Через порог нельзя”. За чем последовала улыбка и на английском, с сильным русским акцентом: “Олд рашн кастом” (“старый русский обычай”). Моими же первыми словами, обращенными к нему (признаюсь, приготовленными заранее, что не делает их менее искренними), были: “Познакомиться с вами — это все равно, что познакомиться с двадцатисе- 218 милетней Ахматовой в 1916 году, двадцатисемилетним Пастернаком в семнадцатом или двадцатисемилетней Цветаевой в двадцатом”. (Конечно, мне следовало прибавить: “...и с двадцатисемилетним Мандельштамом в восемнадцатом”, — но, к моему стыду, в 1967 году я еще не узнал и не оценил поэзию Мандельштама.) Мы встречались с Бродским в течение следующей недели почти ежедневно, также и в течение нескольких дней в сентябре, когда я опять заехал в Ленинград. На прощание он сказал мне: “Донт чейндж” (“Не меняйтесь”) и по-русски:' “Храни вас Бог, Джордж”. На прощание он вручил мне то, что сам назвал “царственным подарком”, книгу, надписанную ему Ахматовой в Москве 28 декабря 1963 года: “Иосифу Бродскому, чьи стихи кажутся мне волшебными”1. Горячо поблагодарив его, я сказал, что никак не могу принять такой драгоценный дар. (Позднее книга была передана Бродским на хранение М.Барышникову, а после смерти поэта Барышников передал ее в музей Ахматовой в Петербурге.) В следующий раз я навестил Бродского в Ленинграде в июне 1968 года. В тот раз я даже смог немного поддержать его материально, так как вручил ему 250 рублей, в которые превратился его гонорар, 300 долларов, за “Стихотворения и поэмы” благодаря искусственно установленному курсу обмена валюты. Наша последняя встреча тогда состоялась 27 июня. К тому времени мы уже обсудили возможность издания нового сборника стихов в эмигрантском издательстве, а также томика новых переводов, не включенных в “Стихотворения и поэмы”, а также черновые наброски содержания обеих книг. К пограничникам в аэропорту я подходил со всеми этими бумагами, спрятанными во внутренних карманах пиджака. Признаюсь, что дрожал, как осиновый лист. К счастью, хотя они тщательно обыскивали мои чемоданы и портфель, в карманах рыться не стали. Если бы стали, то история этого текста была бы иной. Видимо, сыграло роль то обстоятельство, что из Ленинграда я еще полетел в Киев, а оттуда через Москву в Амстердам и Нью-Йорк. Ведь рейс из Ленинграда в Киев был внутренним, и там не было таких строгостей. _______________ 1 Анатолий Найман указал мне на то, что в стихотворении 1956 года “Сон” Ахматова сама использовала выражение “царственный подарок”, вероятно, по отношению к подаркам, привезенным ей сэром Исайей Берлином из Англии. 219 * * *Глеб Струве и Борис Филиппов, которые совместно выпустили несколько фундаментальных изданий русских поэтов (Ахматова, Мандельштам и др.), были со-редакторами 239-страничной книги “Стихотворения и поэмы”, в которую вошли сочинения Бродского, дошедшие по каналам самиздата (издательство Inter-Language Literary Association, русское название — “Международное Литературное Сотрудничество”, Вашингтон-Нью-Йорк). Чтобы уберечь Бродского от обвинений в сотрудничестве с “изменниками родины”, редакторы убрали с титула свои имена, а вступительную заметку Струве подписал псевдонимом “Георгий Стуков”. Надо отдать им должное, Струве и Филиппов постарались подготовить к печати рукописи, которые были в их распоряжении в 1964 году, наилучшим образом. Однако, когда вернувшийся из ссылки Бродский впервые увидел “Стихотворения и поэмы” в ноябре 1965 года, он испытал смешанные чувства: с одной стороны, двадцатипятилетнему поэту, не сумевшему ничего опубликовать на родине, приятно было увидеть изданный в эмиграции том своих стихов. Но с 1957 до 1965 года его развитие бьшо стремительным, и он испытал разочарование, увидев, как много в книге juvenilia 1957-1961 годов. У него также вызвали раздражение довольно многочисленные опечатки и некоторые ошибки, хотя, я думаю, он, несомненно, понимал, что невозможно бьшо бы выпустить безупречную в этом отношении книгу, работая с самиздатскими материалами, без какого бы то ни было контакта с автором. Он быстро напечатал на машинке список двадцати шести стихотворений, написанных между 1957 и 1961 годами, которые он не хотел включать в намечавшийся сборник. Из этих двадцати шести двадцать два входили в “Стихотворения и поэмы”. Среди них — “Рыбы зимой”, “Гладиаторы” и “Памятник Пушкину”. (В 1992 году двенадцать из исключенных тогда стихотворений были включены, с разрешения автора, в “Сочинения Иосифа Бродского”: “Еврейское кладбище около Ленинграда...”, “Пилигримы” и “Я как Улисс” и др.) Похоже, что и на этот раз редакторам пришлось убеждать Бродского включить в собрание сочинений эти ранние стихи, причем одним из аргументов было то, что В. Марамзин и 220 М. Хейфец подверглись жестокой расправе за самиздатскую публикаций этих, наряду с другими, стихов. В 1967 году в западной печати появились разоблачительные сообщения о том, что “Конгресс за Свободу Культуры”, журнал “Энкаунтер” и “Международное Литературное Сотрудничество” получают субсидии от ЦРУ. Ни одна из этих организаций к разведке как таковой никакого отношения не имела, они выступали за интеллектуальную свободу и их деятельность выражалась, например, в издании запрещенных в Советском Союзе поэтических произведений Ахматовой, Мандельштама и Бродского. Но из- за разразившегося скандала “Международному Литературному Сотрудничеству” пришлось свернуть свою издательскую деятельность. Какое-то время в конце шестидесятых годов оставалось неясным, кто и на какие средства издаст “Остановку в пустыне” (как Бродский назвал свой сборник). Мы с Борисом Филипповым договорились, что предисловия не нужно, что стихи будут говорить сами за себя. 18 декабря 1967 года он написал мне, что ввиду яростной травли в Советском Союзе Синявского-Терца, издававшего свои вещи за границей, наше издание следует на несколько месяцев отложить. Я, конечно, согласился и ответил, что “если бы новая книга вышла сейчас, это бы поставило Бродского в неудобное и, возможно, опасное положение”, что нужно отложить издание по крайней мере на полгода. Нас сильно напугало сообщение эмигрантского польского журнала “Культура” (Париж), что Бродский арестован. Оказалось, что это не совсем так: его не арестовали, а вызвали на допрос, что в тот период с ним случалось нередко. Тот факт, что два существенных стихотворения 1965 года появились в ленинградском “Дне поэзии 1967”, не придали нам уверенности. 18 мая 1968 года Филиппов писал мне: “И вот теперь возникает вопрос: как и когда издать книгу его стихов и поэм? Не повредит ли это ему, раз его как-то стали печатать там? Без вашего совета не хочу даже поднимать вопроса о том, чтобы выпустить новое, расширенное и пересмотренное собрание его стихов”. Однако, как я уже говорил, я встретился с Бродским в Ленинграде в июне, и он не только охотно встречался со мной, но настаивал на том, что независимо от заявлений или действий властей он хочет издания на Западе и “Остановки в пустыне”, и нового сборника на англий- 221 ском. Анатолий Найман, с которым Бродский познакомил меня в 1967 году и с которым мы подружились, еще в 1964 году написал короткий очерк поэзии Бродского под названием “Заметки для памяти”. Вместе Бродский и Найман решили, что в расширенном виде “Заметки” будут подходящим предисловием к “Остановке в пустыне”. Я ясно помню день 27 июня, помню, как Найман сел за старую машинку Бродского и принялся бешено печатать, в то время как такси у тротуара поджидало, чтобы отвезти меня в аэропорт к моему киевскому рейсу в 6 часов. Эту рукопись я вывез в тот раз из России вместе с другими. И тогда, и позднее Найман очень твердо напомнил мне, что “предисловие”, если вы его используете, должно появиться без подписи” (передано Амандой Хэйт в письме от 18 октября 1968 года из Лондона; Аманда Хэйт — впоследствии автор известной монографии об Ахматовой). Когда книга Бродского вышла, под “Заметками для памяти” стояло: “Н.Н.”. В 1967 году я познакомился через Филиппова и Макса Хейуорда1 с Эдвардом Клайном, моим однофамильцем, который вскоре стал моим другом. Клайн был нью-йоркский бизнесмен, горячо увлеченный делом поддержки диссидентов в СССР. Он был личным другом Андрея Сахарова и Елены Боннер, Валерия Чалидзе, Павла Литвинова и др. Он же стал президентом возрожденного издательства им. Чехова. А главным редактором — преподававший тогда в Колумбийском университете Хейуорд. Прежнее издательство им.Чехова издало в пятидесятые годы тома Хомякова, Владимира Соловьева, Розанова, Зощенко, Ахматовой и многое другое. Первой книгой, выпущенной возрожденным издательством в мае 1970 года, была “Остановка в пустыне”. Позднее они первыми издали прославленные воспоминания Надежды Мандельштам. Финансовую поддержку издательству оказывала компания “Братья Клайн”, нью-йоркский издатель Уильям Йованович, а позднее и Фонд Форда. В сентябре 1968 года пришла неприятная весть из Англии, что лорд Николас Бетелл и Владимир Чугунов собираются издавать новый сборник стихов Бродского. Они заявили, что ничего не знают о предполагаемом издании “Остановки в пустыне” и не намерены от- _________ 1 Специалист по русской литературе, переводчик на английский язык (совместно с М.Харрари) “Доктора Живаго”. 222 менять свое издание, если не получат “письменного обязательства”, что американская книга будет выпущена в ближайшее время. 3 января 1969 года я написал Фейт Уигзелл1, профессору русской литературы Лондонского университета, которая служила посредником между нами и Бетеллом с Чугуновым, что давать письменные подтверждения было бы неосторожно — документ мог попасть в руки КГБ и быть использован против Бродского. В конце концов Бетелл и Чугунов согласились принять устное заявление Макса Хейуорда, когда он в мае 1969 года вернулся в Англию, что “Остановка в пустыне” вот-вот выйдет, и отказались от своей затеи. И правда, “Остановка в пустыне” могла выйти уже в 1969 году, но мы ждали получения от Бродского его замечательной поэмы (1400 строк!) “Горбунов и Горчаков”. Она была закончена в конце 1968 года. До нас она добралась только к середине 1969 года. Карлу Профферу2 удалось послать рукопись из Москвы диппочтой. В “Остановке в пустыне” стояло имя Макса Хейуорда как главного редактора издательства. Фактическим редактором книги у них считался я, но мы с Хейуордом и Эдвардом Клайном решили, что лучше моего имени не упоминать, поскольку начиная с 1968 года, главным образом из-за моих контактов с Бродским, меня взял на заметку КГБ. (Вернуться в Россию мне удалось только двадцать два года спустя, в 1991 году, на конференцию, посвященную жизни и творчеству Бродского.) Сам-то я считал, что подлинным редактором был Бродский, так как это он отобрал что включить в книгу, наметил порядок стихотворений и дал названия шести разделам. Аманда Хэйт встретилась с Бродским и Найманом в Москве в сентябре 1970 года и писала мне, что “Остановку в пустыне” “в целом все весьма одобрили” и что автор “определенно в восторге” от книги. Но в книге, которую Аманда привезла Найману, Бродский тут же стал делать исправления опечаток и небольших оши- ____________ 1 Знакомая Бродского. Ей посвящено стихотворение “Пенье без музыки” (1970). 2 Карл Проффер (1938-1984) — профессор русской литературы Мичиганского университета, основатель издательства “Ардис”, которое начиная с 1977 года выпустило большинство книг Бродского на русском языке. С шестидесятых годов — близкий друг Бродского. 223 бок1. Позднее он прислал мне список поправок. Они были учтены при подготовке ардисовского репринта в 1988 году. * * *Как мы убедились, соотношение между “Остановкой в пустыне” (1970) и “Стихотворениями и поэмами” (1965) было непростое. Частично вторая книга Бродского включала в себя первую, хотя по настоянию автора двадцать два стихотворения из ранней книжки в “Остановку” не вошли. Зато прибавилось около тридцати новых вещей, написанных между 1965 и 1969 годами. “Остановка в пустыне” была первой русской книгой Бродского, вышедшей под его контролем. Сходным образом “Избранные стихи” (“Selected Poems”, 1973) стали первой книгой, вышедшей при участии автора по-английски. Семидесятисемистраничная книжка “Элегия Джону Донну и другие стихотворения” (“Elegy to John Donne and Other Poems”, 1967), составленная и переведенная Николасом Бетеллом, мало совпадала с “Избранными стихами”. Только восемь стихотворений из первой книги вошли во вторую, в новых, сильно отличавшихся от прежних, переводах. И Аманда Хэйт, и Фейт Уигзелл были знакомы с Никосом Стангосом, новым редактором в лондонском издательстве “Пингвин”, который вел серию “Современные поэты Европы”. Стангосу “по наследству” от предыдущего редактора серии достался контракт на расширенное и пересмотренное издание книжки переводов лорда Бетелла. В июне 1968 года Аманда Хэйт показала Стангосу мой перевод “Большой элегии Джону Донну” и еще некоторых стихотворений. В результате 10 июля Стангос прислал мне предложение целиком сделать пингвинский сборник. Согласившись с мнением Бродского, Аманды и моим, что переводы Бетелла “торопливые, неточные и неуклюжие”, он расторг с ним договор. Сначала Бетелл сопротивлялся. Как писала мне 2 августа Фейт Уигзелл, “литагент у него — дракон”. Но к ноябрю сопротивление было сломлено, и 10 декабря я __________ 1 Некоторые опечатки в книге весьма досадно искажали текст, как, например, две опечатки в заключительных строках посвященного Ахматовой стихотворения “Закричат и захлопочут петухи...”. 224 подписал контракт. К этому времени, однако, мною была закончена только малая часть переводов для книги, в которой, когда она вышла в 1973 году, было 168 страниц. Остальное было переведено за последовавшие четыре года. Многие из этих переводов я печатал в журналах, а потом пересматривал и исправлял для книги. Два профессора русской литературы, Аркадий Небольсин и Юрий Иваск, знали У.Х. Одена. Эти знакомства, а также дружба с русским писателем-врачом Василием Яновским, у которого одно время лечился Оден, стимулировали его интерес к русской философии и культуре. Незадолго до того Оден сочинил предисловие к написанному по-английски роману Яновского “Ничье время” (1967) и эссе-рецензию на подговленный Иваском двухтомник Константина Леонтьева (впервые в журнале “Ньюйоркер” в апреле 1970 года). Меня с Оденом познакомил Небольсин, и я был у поэта несколько раз в Нью-Йорке и один раз в его доме в Кирхштеттене под Веной. Я показывал ему свои переводы из Бродского, а также заметки и предисловия, которые писал к их публикациям. К 11 мая 1968 года он согласился написать предисловие для “Избранных стихов” Бродского. Но 28 июля пришло сообщение от Никоса Стангоса, которое произвело впечатление разорвавшегося снаряда. Он и А. Алварес, поэтический консультант “Пингвина”, который помогал мне дельными замечаниями по поводу моих переводов, решили, что неплохо было бы соединить в этой книге стихи Бродского и страниц пятьдесят стихов Натальи Горбаневской. Я знал, что Бродский и Горбаневская дружны. Но к 1969 году она была известна главным образом не как поэт, а как политический диссидент и активист, пострадавший в застенках КГБ за свой смелый протест против советского вторжения в Чехословакию. Соответственно я решительно отверг предложение Стангоса. “Жизненно важно, — писал я ему 10 августа, — чтобы Бродский был представлен как поэт, а не как политический диссидент и агитатор. Иными словами, его творчество не должно связываться с теми, кто известен прежде всего политическим протестом и агитацией”. Горбаневскую, женщину безусловно благородную и отважную, “вполне можно считать “гражданским поэтом”, но такое определение не более подходит Бродскому, чем оно подошло бы Донну или Элиоту, несмотря на то, что и Донн, и Элиот, и 225 Бродский как люди, поэты и граждане размышляли о проблеме свободы”. Стангос все же хотел узнать, что думает о его предложении сам Бродский. На это я отвечал: “Что же до того, чтобы спросить об этом Бродского, я уверен, что он отреагирует так же, как и я. Однако, откровенно говоря, я думаю, что даже поднимать этот вопрос перед ним было бы небезопасно”. И в заключение я писал: “Простите мою горячность, но это может быть буквально вопросом жизни и свободы для Бродского, прекрасного поэта и человека, которого я уважаю и люблю”. К моему величайшему облегчению, Стангос ответил (29 августа), что я его переубедил и он снимает свое предложение. В 1968-1972 годах мы обменивались с Бродским открытками на Рождество, Новый год, дни рождения, письмами и телеграммами. Но серьезное общение, касавшееся его текстов и моих переводов, происходило при посредстве таких людей, как Аманда Хэйт, Фейт Уигзелл и Вероника Шильц1. С ними я посылал свои вопросы, а он отвечал устно или записками. Порой он писал ответы (часто красными чернилами) прямо на листе с моими вопросами, порой вписывал их, а иногда и новые тексты, в записную книжку посетителя. Так произошло, например, с аспиранткой Колумбийского университета Кэтрин Гибсон в августе 1969 года. Она привезла в своей записной книжке настоящее сокровище — мелко вписанные стихотворения: “Почти элегия” (осень 1968), “Зимним вечером в Ялте” (январь 1969) и “Стихи в апреле” (весна 1969). Кроме присланного мне в ноябре 1970 года Бродским списка поправок к “Остановке в пустыне”, Вероника Шильц дала мне фотокопию поправок, сделанных им в ее экземпляре “Стихотворений и поэм”. Это было очень важно для моих переводов, так как некоторые поправки существенно меняли смысл. Конечно, пока мы жили на разных континентах, трудно было добиться по-настоящему удовлетворительного сотрудничества. Хотя однажды, в январе 1972 года, мне удалось послать ему и получить обратно с обильны- ____________ 1 Профессор археологии в Безансонском университете (Франция), специалист по скифскому искусству, близкий друг Бродского. Основной переводчик прозы и поэзии Бродского на французский язык. Ей посвящены стихотворения “Прощайте, мадмуазель Вероника” и “Персидская стрела” (1993). 226 ми замечаниями черновик перевода стихотворения “Натюрморт”. После июня 1972 года общение, безусловно, стало более частым и плодотворным. С редакторами Стангосом и Алваресом я тоже общался главным образом на расстоянии. Бродский встретился с ними, когда приехал в Англию в компании Одена в июне 1972 года, а потом еще раз через год, когда книга была уже в производстве. 16 декабря 1969 года в письме из Нью-Йорка Оден подтвердил получение моей рукописи (примерно сто страниц переводов), но писал, что хочет посмотреть мое “Введение”, прежде чем возьмется за предисловие. Он завершил свое предисловие 23 апреля 1970 года, успев познакомиться, насколько я припоминаю, только с черновым вариантом “Введения”. Я сразу же перепечатал шесть страниц машинописи Одена без интервалов и почти без полей, так что все уместилось на двух листках папиросной бумаги. Тут кстати мой друг, Майкл Керран, профессор русской истории университета штата Огайо, ехал в конце апреля в Ленинград. С Бродским он познакомился еще в 1966 году, участвуя в программе по обмену студентами. Он вызвался отвезти текст Одена. В Ленинград он ехал поездом из Хельсинки. Зная советских пограничников, в последнюю минуту перед границей он вынул листочки из кармана и засунул их под подкладку сумки. Это оказалось очень удачно, поскольку его тщательно обыскали — карманы, бумажник. Пограничник и под подкладку сумки просунул руку, но у него оказались — буквально — руки коротки: до листков он не дотянулся. Бродскому послание было доставлено в начале мая. Он реагировал на него смешанными чувствами изумления, восторга и благодарности. Он рискнул послать Одену (по-моему, даже по почте) благодарственное письмо. Оден встретил Бродского в Вене в июне 1972 года, и они близко сошлись в течение последних пятнадцати месяцев жизни Одена. Смерть Одена в сентябре 1973 года была для Бродского огромной потерей. Но мы, по крайней мере, успели телеграфировать Стангосу, чтобы он вставил на оборот титула посвящение: “Памяти Уистена Хью Одена (1907—1973)”. Оден приглашал меня приехать в Кирхштеттен 21 июля 1970 года. У нас была приятная и продуктивная встреча. Я читал ему отредактированный текст своего “Введе- 227 ния”, и Оден сказал, что это примерно то, что и нужно сказать о Бродском как поэте. Вскоре после того, как он обосновался в Мичигане, в Анн Арборе, Бродский полетел в Олбани (штат Нью-Йорк), аэропорт, ближайший от нашего летнего коттеджа в западном Массачусетсе. Мы провели вместе шесть дней (21—26 июля), по большей части на террасе коттеджа или деревянного домика, построенного высоко в ветвях большого дуба, обсуждая мои переводы строка за строкой. Большинство из них Бродский тогда видел впервые. Прямых ошибок он обнаружил немного, но в нескольких местах я упустил литературные аллюзии и скрытые цитаты или выбрал неверную тональность в иных строках мягко ироничной окраски. Бродскому очень хотелось включить два еще незнакомых мне стихотворения, написанных в феврале 1972 года. Он знал их наизусть, даже более длинное, в котором было семьдесят две строки. Он спросил, есть ли у меня пишущая машинка с кириллицей, и, когда я вынес свою портативную, он присел за стол на террасе и отпечатал текст “Сретенья”. Я тут же засел за перевод этого стихотворения и стихотворения “Одиссей Телемаку”. Эти сильные и трогательные стихи завершают книгу “Избранных стихов”. До весны 1973-го, когда окончательно откорректированные гранки были отосланы в издательство, мы неоднократно консультировались — письменно, по телефону и лично. За это время мы раз тридцать вместе участвовали в поэтических чтениях в колледжах и университетах, а в середине марта я провел несколько дней у него в Анн Арборе. В конце апреля, посмотрев макет книги, он сказал, что “очень доволен”, и добавил: “Джордж, лучше вас с этим бы никто не справился”. В марте 1972 Френсис Линдси, вице-президент и главный редактор нью-йоркского издательства “Харпер энд Роу”, который перед этим издал два тома Солженицына, прислал мне предложение переиздать в Америке в твердом переплете изданную “Пингвином” книгу. Это предложение мы с Бродским приняли. Книга, вышедшая 2 января 1874 года, в двух отношениях была лучше, чем вышедшая на месяц раньше английская версия: во-первых, в ней имелся указатель названий и первых строк (Стангос отказался включать указатель, посколько это было не принято в редактируемой им серии), а во-вторых, шрифт был крупнее — книга стала и читабельнее, 228 и приятнее на вид. Затем она была переиздана в США и в бумажной обложке (25 августа 1974 года). Следующий сборник стихов Бродского на английском — “Часть речи” — вышел в издательстве “Фаррар, Страус и Жиру” в 1980 году. Переводчики там разные, в том числе и сам Бродский. Десять переводов были мои, из них три, в слегка исправленном виде, из предыдущей книги: “Натюрморт”, “Сретенье” и “Одиссей Телемаку”. Так закончилась любопытная, порой не без приключений, но в конце концов благополучная история двух книг — русской и английской — первых, подготовленных к печати самим Бродским. Перевод Л. Лосева Бенгт Янгфельдт[5]. Шведские комнатыПочти каждое лето с 1988 по 1994 год Иосиф Бродский проводил несколько недель в Швеции, и многие из его произведений — поэтических, прозаических, драматических — были написаны здесь. Так, например, книга о Венеции (“Набережная неисцелимых”) была частично написана в Стокгольме, в угловом номере гостиницы “Reisen”, с белым трехмачтовиком “af Chapman” (“аф Чапман”) перед глазами; отсюда “как только выходишь из отеля, с тобой, выпрыгнув из воды, здоровается семга”. Комната в “Рейзен” была обычным, но довольно большим гостиничным номером. Не слишком большим, но на грани того, что выносил Бродский. Тем не менее ему удавалось здесь работать; возможно, давящий излишек площади компенсировался видом на самую дорогую ему стихию — воду, эту форму сконденсированного времени. 230 Комнаты — размер комнат и их планировка — постоянно занимали Бродского, поскольку он постоянно нуждался во временном помещении для работы. Каждое летнее полугодие он проводил в Европе, спасаясь от нью-йоркской жары, смертельной для сердечника. Те его друзья, которые год за годом старались по мере возможности обеспечить поэту необходимый ему рабочий покой — в Лондоне, Париже, Риме или Стокгольме, — знают, как это было нелегко. Даже те, кто считал, что кое-что знает о его вкусах, не могли предугадать, как отреагирует поэт на предложенный метраж. Вода, вид из окна, свинцовые волны — в теории все сходилось, но он отказывался или не мог решиться, и ничего не получалось. Несколько раз Бродский подолгу, то есть пока денег хватало — обычно пару недель — жил на борту корабля-гостиницы “Malardrottningen” (“Мэлардроттнинген”). Каюта была крошечная, едва повернуться, но хлюпающая близость воды с лихвой восполняла в данном случае недостаток площади. Два лета подряд он жил в двух разных квартирах на площади Kariaplan (Карлаплан) в Стокгольме. В одной из них он выбрал комнату для прислуги, хотя уехавшие хозяева предложили ему парадные комнаты. Там было удобней, и к тому же шел чемпионат мира по футболу и телевизор стоял в той части квартиры. Другая квартира была однокомнатной, и все грозило закончиться катастрофой уже на пороге: аскетически белые стены были увешаны того рода “современным” искусством, которое Бродский не выносил: эта “дрянь XX века”, единственная функция которой — “показать, какими самодовольными, ничтожными, неблагородными, одномерными существами мы стали”. Несмотря на это, он оставался там месяц с лишним и в числе прочего написал пьесу “Демократия!”. Он пробыл так долго частично потому, что интерьер в конечном итоге его заинтересовал: в этой смеси психбольницы с музеем современного искусства он видел объяснение тихому скандинавскому помешательству, как оно выражается, например, в фильмах Ингмара Бергмана. Но в этом проявлялась и важная черта характера самого Бродского: он постепенно обживал все помещения, где жил, и отъезд всегда был мукой; особенно если хорошо работалось. В любом случае, причиной тому было не отсутствие альтернативы — 231 гостиничные номера всегда имелись — и не деликатность: сбежавшему в Милане из дворца директора “Фиата” Аньелли не составило бы труда оставить однокомнатную квартиру в Стокгольме. Одно лето он провел на даче у северного берега озера Vattem (Веттерн); но чаще всего он бывал в Стокгольме и в стокгольмских шхерах: та же природа, те же волны и те же облака, посетившие перед тем его родные края, или наоборот; такая же — хотя более сладкая — селедка и такие же сосудорасширяющие — хотя и более горькие — капли1. На даче на острове Того (Торе), с головокружительным видом на острый как лезвие горизонт, в августе 1989 года было написано стихотворение “Доклад для симпозиума” с его эстетически-географическим кредо: Но, отделившись от тела, глаз скорей всего предпочтет поселиться где-нибудь в Италии, Голландии или в Швеции. Но, как я говорил, рабочее пространство не должно было быть слишком большим. Если на участке стоял домик для гостей, он выбирал его. И в нашей квартире он сразу указал на облюбованное им место: балкон для выбивания ковров размером примерно с каюту на Malardrottningen'e, возможно, немного меньше. В любом случае, не десять квадратных метров, как та комната, которая на всю жизнь определила представление Бродского об идеальном пространстве. Те десять квадратных метров были частью “полутора комнат” в коммунальной квартире в центре Ленинграда, описанных им по-английски в одном из лучших воспоминаний о детстве в русской литературе. Там он жил до изгнания в 1972 году, там же — спустя десять с лишним лет, в отсутствие сына, — умерли его родители: Литейный проспект, дом 24, квартира 28. “Моя половина, — пишет он, — соединялась с их комнатой двумя широкими арками, доходившими почти до потолка, которые я постоянно пытался заставить сложными конфигурациями из книжных полок и чемоданов, чтобы, отгородившись от родителей, обрести относительную степень покоя. Речь может идти лишь об относительной степени, поскольку высота и ширина _________ 1 “Горькие капли” — название любимой шведской водки Бродского. 232 арок плюс мавританское завершение их верхней части исключали окончательный успех дела”. Строительство баррикады, начавшееся в пятнадцать лет, становилось все более ожесточенным по мере того, как книги и гормоны требовали своего. Переделав книжный шкаф — отодравши заднюю стенку, но сохранив дверцы, — Бродский получил отдельный вход на свою половину: посетителям приходилось пробираться через эти дверцы и драпировку. А чтобы скрыть природу некоторых действий, происходивших за баррикадой, он включал проигрыватель и ставил классическую музыку. Со временем родители стали ненавидеть И.С. Баха, но музыкальный фон исполнял свою функцию, и “Марианна могла обнажить больше чем только грудь”. Когда со временем музыку стало дополнять тарахтение “Ундервуда”, отношение родителей сделалось более снисходительным. “Это, — пишет Бродский, — было моим Lebensraum (жизненным пространством). Мать убирала его, отец проходил его, направляясь в свою домашнюю фотолабораторию, иногда кто-нибудь из родителей искал пристанища в моем потертом кресле после перебранки. <...> В остальном же эти десять квадратных метров были мои, и это были самые лучшие десять квадратных метров из всех, что я когда-либо имел”. Бродскому никогда больше не довелось увидеть ни своих родителей, ни того Lebensraum, которое он с почти маниакальным упорством пытался воссоздать в других местах в течение оставшейся жизни. Он никогда не увидел своей комнаты потому, что никогда не вернулся в родной город; и не вернулся он в родной город потому, что его мышление — и действия — были линейными: “Человек двигается только в одну сторону. И только — ОТ. От места, от той мысли, которая пришла ему в голову, от самого себя”. Короче говоря, потому что с тридцати двух лет от роду он был кочевником — вергилиевским героем, осужденным никогда не возвращаться назад. Тем не менее он много раз собирался, во всяком случае — мысленно. После получения Нобелевской премии, а главное, после падения тирании, когда появилась возможность вернуться, ему часто задавали вопрос, почему он не едет. Доводов было несколько: он не желал возвращаться туристом в родную страну. Или: он не желал приезжать по приглашению официальных учреж- 233 дений. Последний был: “Лучшая часть меня уже там — мои стихи”. И все-таки он вернулся. В январе 1991 года в Ленинграде был организован первый симпозиум по творчеству Бродского. Однажды мы отправились на экскурсию к дому с полутора комнатами, и я отснял пленку, которую собирался отослать потом в Нью-Йорк. Это наверняка обрадует его, думал я: фотографии старых друзей перед его Lebensraum. Ведь почти такой же силы, что кочевой инстинкт поэта, была его противоположность: ностальгия. Полпленки было отснято в Стокгольме, и я дощелкал ее в Ленинграде. Когда ее проявили, оказалось, что произошло двойное экспонирование. И не одного или двух кадров, как бывает, а всех. Снимки, сделанные в Стокгольме, изображавшие Бродского и его жену и часть моей семьи, оказались спроецированными на снимки, сделанные в Ленинграде. На одной из фотографий он стоит у квартиры 28, на другой он смотрит вверх, на балкон от полутора комнат, со Спасо-Преображенским собором на заднем плане. Таким образом, Бродский все-таки вернулся в свою идеальную комнату; если для этого потребовалась бракованная фотопленка, то, может быть, потому, что он был сыном фотографа. Я долго размышлял, как такое могло произойти, и наконец пришел к единственно возможному выводу: что где-то посередине пленка поменяла направление и шаг за шагом отмоталась к первому кадру — к полутора комнатам. Иными словами, “Кодак” совершил то движение, на которое сам Бродский был неспособен: назад. Перевод В.Азбеля и Б.Янгфельдта Нобелевский кругЧеслав Милош. Борьба с удушьемПонадобилось менее десяти лет, чтобы мощное присутствие Иосифа Бродского утвердилось в мировой поэзии. Однако из его четырех русских книг только одна, “Избранные стихотворения” (“Остановка в пустыне”), была переведена на английский (переводчик Джордж Клайн). Культурная общественность, вероятно, ощущает только смутно, своего рода инстинктом, значительность Бродского. Как показывает новая книга1, его поэзия привлекает хороших переводчиков. С другой стороны, читатель входит как бы в огромное здание причудливой архитектуры (собор? стартовая площадка межконтинентальной ракеты?) на свой страх и риск, поскольку критики и литературоведы еще не принимались за составление путеводителей. Слоги, стопы, ритмы, строфы Бродского следуют традиции, но не рабски. По самой своей природе рус- ____________________ Чеслав Милош — выдающийся польский поэт, живущий в США, лауреат Нобелевской премии 1980 года. 1 Книга на английском “Часть речи”, соединяющая в основном переводы стихов из сборников “Конец прекрасной эпохи” и “Часть речи”, вышла в 1980 году. Данная статья была написана как отклик на эту книгу и напечатана в “New York Review of Books” 14 августа 1980 года. 238 ский язык предопределил странный для нашего столетия тип модернизма: новаторство внутри строгих метрических форм. Русский стих в этом отношении отличается от английского, французского, а также польского, чешского и сербохорватского. Разговорные обороты, сленг, непечатные выражения у Бродского, казалось бы, требуют свободы “разговорных ритмов” Уильяма Карлоса Уильямса, но напротив, наряду с сетью метафор, которые иногда развертываются на несколько строф, они создают стиховую конструкцию, которая требует декламации-, почти пения. Бродский придерживается канонов мастерства, восходящих к поэту конца XVIII века Державину. Своими экспериментами с поэтическими жанрами — одой, лирическим стихотворением, элегией, поэмой, новеллой в стихах — он напоминает Одена. Тем более удивительно, что, несмотря на препятствия, которые такая поэзия создает перенесению на другую языковую почву, Бродский осуществляется в английском и находит отклик, среди серьезных читателей по крайней мере. Секрет, вероятно, в том, каким образом он поворачивает вспять некоторые течения, преобладавшие на протяжении последнего полувека. Принципам, на которых эти течения основывались, предстояло не пасть в бою, а, как нередко бывало в истории идей, просто быть обойденными сторонкой. Бродский вырос в Советском Союзе, но, будучи самоучкой, оказался непроницаем для того способа мышления, который там насаждается. В годы изгнания, после 1972, он точно так же держался на расстоянии от интеллектуальных веяний новой среды. В то же время он не похож на тех недавних русских эмигрантов, которые замыкаются в своей славянской скорлупе, не доверяя пагубному Западу. Чтобы обнаружить его корни, нам нужно обратиться к эпохе европейского космополитизма, закончившейся с Первой мировой войной, а в России с началом революции. Бродский начинает там, где были остановлены молодые Мандельштам и Ахматова. Это не означает, однако, что послереволюционные десятилетия, столь трагичные для русской поэзии, не наложили на его мир глубокого отпечатка. За поэзией Бродского стоит опыт политического террора, опыт унижения человека и роста тоталитарной империи. Таким образом, нам приходится говорить о двух направлениях в его творчестве, западном и русском. Оба берут 239 исток в космополитической Европе до 1914 года и снова сливаются в творчестве поэта, изгнанного из родной страны. Меня захватывает чтение этих стихов как части еще более величественного замысла, ни больше ни меньше чем попытки утвердить место человека во враждебном мире. Вопреки преобладающим в наше время тенденциям он верит, что поэт, прежде чем обращаться к последним вопросам, должен соблюдать некий кодекс. Он должен быть богобоязненным, любить свою страну и родной язык, полагаться только на свою совесть, избегать союзов со злом и не порывать с традицией. Эти элементарные правила поэт не должен забывать и не имеет права высмеивать, так как усвоение их есть часть его инициации, точнее, посвящения в святое ремесло. Есть принципы, которые надо соблюдать. Поэт предает свое призвание (Надежда Мандельштам рассказывает о таких поэтах в своих мемуарах), когда он позволяет себя соблазнить или сам становится соблазнителем. Современность угрожает ему шумом теорий, интеллектуальных мод, эмоциональных лозунгов, новинок, превращающихся в клише. Позволяя себе относиться к этому шуму слишком серьезно, поэт забывает, что сам он только часть многотысячелетней традиции. Если он забывает об этой традиции, он скорее может соблазнить своего читателя, предлагая ему фальшивый и искаженный образ своего времени. Также его самого можно заманить тогда на службу к власть имущим. Устоять перед таким искушением ему помогает понимание того, как ничтожно их мышление, какие коротенькие у них планы. Они заслуживают своей судьбы — немного погрохотать и навсегда умолкнуть. Так что использовать поэзию для атак на них — слишком много чести. Задача поэта, как ее понимает Бродский, — сохранить преемственность в мире, все более и более подверженном утрате памяти. Если называть его исходный текст — это Библия. Европейский или американский поэт не имеет права забывать, что он принадлежит данной цивилизации, рожденной на берегах Средиземноморья, сплаву еврейской, греческой и латинской стихий. Таким образом, Греция и Рим будут для него источником topoi и форм. Если он русский, его поэзия, черпая из великих западных предшественников, таких, как Данте и английские метафизики, будет подчерки- 240 вать единство европейской культуры, избежит славянофильских метаний между комплексами неполноценности и превосходства по отношению к Западу. Пытаясь на основе произведений Бродского реконструировать его поэтику, я не хотел бы представить его человеком, ищущим убежища в консерватизме. Главное для меня то, что его отчаяние — это отчаяние поэта, принадлежащего концу XX века, и оно обретает полное значение только тогда, когда противопоставлено кодексу неких фундаментальных верований. Это сдерживаемое отчаяние, каждое стихотворение становится испытанием на выносливость. В “Часть речи” входит несколько стихотворений, написанных в Советском Союзе, но главная тема книга — изгнание, изгнание в двояком смысле — буквально и как метафора состояния постмодерного человека. Бродский — поэт автобиографический, и его темы связаны с его маршрутами: Ленинград детства и юности, Крым, северный совхоз, где он отбывал ссылку как “тунеядец” (то есть поэт без государственной лицензии), Литва, Америка (Анн Арбор и Кейп Код), Венеция, Флоренция, Мексика и Англия. Путешествия, добровольные и недобровольные, оставляют следы: книга представляет собой философский дневник в стихах. Она отличается от романтических описаний путешествий прошлого, ибо тем была свойственна горизонтальность — земля все еще оставалась отчасти плоской. Теперь мир необратимо кругл и с каждым днем становится все меньше. Как построить на нем крепость — для себя, для человека? Возможно, отправившись в немецкий город, где психопат, одержимый жаждой власти, начинал свою карьеру, и размышляя там о преходящести gloria mundi. В городке, из которого смерть расползалась по школьной карте, мостовая блестит, как чешуя на карпе, на столетнем каштане оплывают тугие свечи, и чугунный лев скучает по пылкой речи. Сквозь оконную марлю, выцветшую от стирки, проступают ранки гвоздики и стрелки кирхи; вдалеке дребезжит трамвай, как во время оно, но никто не сходит больше у стадиона. Настоящий конец войны — это на тонкой спинке венского стула платье одной блондинки да крылатый полет серебристой жужжащей пули, уносящей жизни на Юг в июле. 241 Я выбрал это стихотворение потому, что здесь встречаются путь поэта и история XX столетия, а также потому, что здесь очевидны некоторые качества поэзии Бродского, ее сжатый, мужественный, напряженный тон. Таким строкам свойственно стремление к парности, но Бродский чаще разгоняет одно предложение на несколько строк, почти задыхаясь. Те, кому приходилось слышать эти стихи в авторском чтении, знают, что своим ритмом они обязаны страстному, но сдерживаемому напору. Человек против пространства и времени. Эти два слова, центральные для его поэзии, неизменно вызывают у Бродского зловещие ассоциации: “И пространство торчит прейскурантом”, “Время создано смертью”, “Уставшее от собственных причуд Пространство”, “И пространство пятилось, точно рак,/ пропуская время вперед. И время/ шло на запад, точно к себе домой,/ выпачкав платье тьмой”... Нужно прибавить еще два слова, “полушарие” и “империя”, как ключевые для чтения Бродского. И географии примесь к времени есть судьба. Бродский перебрался с одного континента на другой, из одного полушария в другое, из одной империи в другую. Его “Колыбельная Трескового Мыса” — это продолжительная медитация на тему перемещенности в пространстве. Дуя в полую дудку, что твой факир, я прошел сквозь строй янычар в зеленом, чуя яйцами холод их злых секир, как при входе в воду. И вот, с соленым вкусом этой воды во рту, я пересек черту. И поплыл сквозь баранину туч. И несколькими строфами ниже: Я пишу из Империи, чьи края опускаются под воду. Снявши пробу с двух океанов и континентов, я чувствую то же почти, что глобус. То есть, дальше некуда. 242 “Империя” — это одна из словесных дерзостей Бродского. Римские завоевания не именовались “освободительными” или “антиколониальными”. Они были не чем иным, как торжеством силы. Сходным образом ни Карл Великий, ни Наполеон свои претензии на расширение власти идеологией особенно не прикрывали. XX век стал свидетелем борьбы между несколькими силовыми центрами, прикрытой дымовой завесой орвеллианского двуязычия, высокопарных лозунгов. То, что их страна является империей, может быть для русских источником гордости, а для американцев, с их странной склонностью к самобичеванию, источником стыда, но это неоспоримая реальность. “Империя” для Бродского означает также сами размеры континента, монументальность как таковую, к чему он питает слабость. Иллюзиям здесь места нет: Земля недостаточно велика и Солнца не хватает, чтобы освещать одновременно оба полушария (“одного светила/ не хватает для двух заурядных тел”). И все же, как мы и ожидаем от Бродского, “Колыбельная Трескового Мыса”, одна из сильнейших его вещей, есть утверждение выносливости. Он добивается того, чего не смогли добиться предшествующие поколения русских писателей-эмигрантов: хотя бы и неохотно, но сделать страну изгнания своей, поэтическим словом предъявить права на владение. Он создает метафору выброшенной на сушу рыбы, “фиш на песке”, продвигающейся, извиваясь, к кустарнику. Он продолжает: Но пока существует обувь, есть то, где можно стоять, поверхность, суша. Бродский — поэт со сложным культурным багажом, он свободно оперирует литературными моделями и архетипами человеческого поведения. Это помогает ему разрешить проблему противостояния личности угнетающему общественному устройству, поэта против власти. В “Письмах римскому другу”, новой вариации на горацианскую тему жизни в глуши, Гораций адресует свои строфы Постуму, живущему в имперском Риме. В “Торсе” жизнь символизируется в образе мыши, которая противостоит “Империи”, обращающей все живое в камень. Тут трудно не вспомнить пушкинского “Медного всадника”, где бедного Евгения, поистине мышь, преследует монумент Петра Великого. Совершенно лич- 243 ные неприятности, испытанные Бродским в 1969 году, еще в России, преображаются, возвышаются до классического уровня. В “Конце прекрасной эпохи” он пишет: То ли пулю в висок, словно в место ошибки перстом... Заключительная строфа звучит так: Зоркость этих времен — это зоркость к вещам тупика. Не по древу умом растекаться пристало пока, но плевком по стене. И не князя будить — динозавра. Для последней строки, эх, не вырвать у птицы пера. Неповинной главе всех и дел-то, что ждать топора да зеленого лавра. Даже цикл преимущественно автобиографических коротких стихотворений “Часть речи” выносит современные ситуации за пределы XX века, намекая на эру восточных царей и их царедворцев: Свобода — это когда забываешь отчество у тирана, а слюна во рту слаще халвы Шираза, и, хотя твой мозг перекручен, как рог барана, ничего не каплет из голубого глаза. В нескольких самых трогательных стихотворениях Бродский использует мотивы из Библии, Гомера и Вергилия. На мой взгляд, к его высшим достижениям относятся “Одиссей Телемаку” и “Сретенье”, стихотворение о старце Симеоне, принимающем во храме младенца Христа. Начало первого стихотворения прекрасно своей простотой: Мой Телемак, Троянская война окончена. Кто победил — не помню. Жаль, что в настоящий сборник не вошли другие “классические” стихотворения: “Исаак и Авраам”, “Сонет” (“Великий Гектор стрелами убит...”), “К Ликомеду, на Скирос”, “Дидона и Эней”, “Post aetatem nostram”. Стремление использовать античные мотивы характерно еще для некоторых современных поэтов и свидетельствует о их недоверии к аморфности современного существования. Но все-таки все они пользуются классическими мотивами по-разному, пропорция лично 244 пережитого и литературного у каждого своя. У Бродского второй компонент только-только достаточен, чтобы слегка остудить сильные чувства: в этих стихах он менее сардоничен, чем в других. И все же все вышесказанное — это только один возможный подход к определению творчества Бродского. Это философская поэзия, отмеченная тем, что Гете считал высшей стадией духовного развития личности и называл “Уважением”. Это поэзия двух полярностей человеческого существования: любовь, переживаемая и выстраданная, и смерть, ощутимая почти на вкус и устрашающая. И к любви, и к смерти в этих стихах отношение трепетное, выраженное во вдохновенных заклинаниях, совсем не мирских на мой слух. Интенсивность, которую впору назвать религиозной, в сочетании с метафорической насыщенностью делает Бродского подлинным наследником английских метафизиков, и ясно, что он чувствует свое с ними родство. В длинном любовном стихотворении “Пенье без музыки” развивается очень барочная геометрическая метафора двух “точек”, то есть любовников, разделенных пространством, но соединенных линиями, которые пересекаются где-то над ними, образуя треугольник. В “Бабочке” XVII век вновь посещается, оживляется и обогащается. Великолепная “Большая элегия Джону Донну” была написана еще в России. Находясь на севере Советского Союза, он узнал о смерти Т.С.Элиота и написал поэтическую панихиду, позаимствовав для нее форму стихотворения Одена на смерть Йейтса. Я не знаю ни одного западного поэта, который оплакал бы Элиота в стихах. У Бродского нет талисмана веры, который предохранил бы его от отчаяния и страха смерти, и в этом отношении он близок многим своим современникам. Смерть для него всегда ассоциируется с Небытием: поднося, хоть дышу, зеркало мне ко рту, — как я переношу небытие на свету. Тем не менее ему не свойствен тон резиньяции, и этим он отличается от современников. Весьма необычно стихотворение о старении, “1972 год”, в строфах которого перечисляются один за другим, со своего рода мазохистским злорадством, признаки разрушительного 245 воздействия времени на тело автора. Но затем в необычном прыжке оптимистического ритма мы слышим неожиданный призыв бить в барабан и маршировать в ногу с собственной тенью. В целом удачный перевод не в состоянии передать парящее движение последних строк: Бей в барабан, пока держишь палочки, с тенью своей маршируя в ногу!1 Возрождение стоицизма в нашем веке обычно обосновывают аналогией между поздней античностью и новейшим временем, поскольку оба периода отмечены смертью богов. На вопрос, является ли личная философия Бродского стоической, я бы ответил: нет. Я вижу глубокую связь между ним и Львом Шестовым. Высокомерный, презрительный, строгий мыслитель, чьи лучшие работы относятся к периоду изгнания в Париже (где он умер в 1939 году). Шестов был открыт, заодно с Кьеркегором, французскими экзистенциалистами. Избранная им для себя роль enfant terrible2 философии — гарантия того, что его еще будут открывать вновь и вновь. Шестов не любил стоицизма, в котором он видел квинтэссенцию подчинения Необходимости, типичного, на его взгляд, для греческой мысли. Афинам он противопоставлял Иерусалим, Сократу и Платону — Книгу Иова. Его труды пропитаны тем уважением к Священному, которое я нахожу и у Бродского. Это “серьезное призвание” — непрестанно стремиться к трансценденции, не принимая вещи как они есть, без утешений спокойной ясности. Бог Шестова, загадочный, смеющийся над людскими ожиданиями, требует благочестивого отношения, несмотря на то, а может быть, именно потому, что он хранит молчание относительно спасения благочестивого человека от Погибели. Должно быть написано исследование на тему “Бродский и Шестов”, не для того, чтобы отыскивать влияния философа на поэта (на мой взгляд, имевшие место), а чтобы продемонстрировать странное совпадение тактик этих двух защитников Священного в век безверия. Определения, приложимые к Шестову и его стилю — высокомерный, презрительный, строгий — подошли бы и Бродскому. К счастью, потому что, будь он гибче и ___________ 1 В статье эти строки процитированы по-русски (в транслитерации). 2 Бунтарь, вольнодумец (франц.). 246 вежливее, он бы не смог поддерживать чистоту своего отказа: Гражданин второсортной эпохи, гордо признаю я товаром второго сорта свои лучшие мысли и дням грядущим я дарю их как опыт борьбы с удушьем. “Борьба с удушьем” — это главное дело поэтов последних десятилетий XX века, где бы они ни жили. В отличие от философа, дом поэта — язык, его прошлое, настоящее, будущее, хотя мало кто из поэтов делает такой сознательный выбор, как-Бродский, который содрал паутину газетчины с родной речи, прежде чем заняться “очищением языка своего племени”. Отчасти его положение даже выгодно, ибо его окружают новые миры, еще не поименованные в русском языке. Они ждут быть открытыми поэтом, который видит их своеобразно, не по-западному. От всего человека вам остается часть речи. Часть речи вообще. Часть речи. Итак, для защиты от отчаяния у нас имеется творчество человека, полностью сосредоточенного на своей поэзии. Здесь и стихи на случай, включая описания посещенных стран и городов, имеют особое назначение. В борьбе против Необходимости пространства и времени Шестову меньше повезло, поскольку он был всего-навсего философ. Бродский ухватывает — улицу, архитектурную деталь, атмосферу места — и извлекает их из потока времени, из пространства, чтобы сохранить навсегда в кристальных метрах. Иногда свою добычу — из Литвы, из Мексики — он объединяет названием “дивертисмент”, вероятно, в музыкальном смысле, хотя, возможно, это связано с “le divertissement”1 Паскаля, который видел в нем главное средство против тоски человеческого существования. Стихи, составляющие “Литовский дивертисмент”, относятся к чистейшей эпиграмматике Бродского. Среди них “Леиклос” и “Dominikanaj”. Первое — название улицы, а второе — католического собора в Вильне, ныне столице советской Литвы. Об этом цикле я не могу ___________ 1 Развлечение, увеселение (франц.): “Развлечения отвлекают нас, помогая не ощущать приближение смерти” (Б.Паскаль). 247 писать беспристрастно. В этом городе моего отрочества и юности, тогда польском, я знаю каждый камень. Цикл посвящен нашему общему другу, литовскому поэту Томасу Венцлова. Пространство, созданное стихотворением, в моем восприятии становится областью эмпиреев, где три поэта разных национальностей и судеб могут праздновать встречу под носом у действительности, которая в том краю грозит и гнетет с особой силой. Не знаю, в какой степени поэзия Бродского нынче известна в Литве. В польских литературных кругах его ценят очень высоко, но переводы его стихов и статьи о нем публикуются только самиздатом. В предисловии к “Избранному” Бродского Оден сказал, что, судя по переводам, Бродский — поэт высшего класса. Будем надеяться, что “Часть речи” поможет закрепить заслуженное им положение выдающегося поэта. 1980 Перевод Л. Лосева Петр Вайль. Поэты с имперских окраин (Беседа с И.Бродским о Дереке Уолкоте)Когда лауреатом Нобелевской премии по литературе 1992 года стал Дерек Уолкот, во всех газетных сообщениях цитировался Иосиф Бродский: “Это лучший из пишущих по-английски поэтов”. Дело не только в том, что один нобелевский лауреат похвалил другого, но и в близости этих имен и этих литературных фигур: в том, что Бродский произнес свои слова десятью годами раньше, что написал о нем эссе в книге “Меньше единицы”, что они друзья, что, наконец, поэтические судьбы их схожи. Оба — осколки империй. Иосиф Бродский — уроженец Ленинграда, житель Нью-Йорка, эмигрант из СССР, гражданин США, русский поэт, американский поэт-лауреат, англоязычный эссеист. Дерек Уолкот — уроженец Сент-Люсии, британской колонии из архипелага Малых Антильских островов в Карибском море, проведший мoлoдocть нa Tpинидaдe, живущий в США профессор Бостонского университета. Как только его остров получил независимость, Уолкот одним из первых сменил подданство Британской империи, в которой не заходило солнце, на гражданство Сент-Люсии, имеющей двадцать пять миль в длину. 249 Поразительно, но этот островок величиной с булавочный укол на глобусе, со ста пятьюдесятью тысячами жителей, произвел на свет уже второго нобелевского лауреата, став абсолютным чемпионом мира по числу шведских премий на душу населения. Первым был экономист Артур Льюис, и если учесть, что благополучие Сент-Люсии зиждется на одной-единственной статье дохода — банановом экспорте, — премия по экономике выглядит иронически. Зато поэтичность Карибских островов никогда не подвергалась сомнению. “Чудесной реальностью” называл эти места Алехо Карпентьер, “сюрреалистическими” — Андре Бретон (может, это отчасти объясняет премию Льюиса?). Другом молодости Уолкота был В.С.Найпол — один из самых блестящих англоязычных прозаиков и эссеистов нашего времени, родившийся на Тринидаде в семье выходцев из Индии. В жилах самого Дерека Уолкота смешались британская, голландская и негритянская кровь, обе его бабки вышли из семей рабов, его первым языком был креольский диалект, английский же, в котором он достиг виртуозности, Уолкот учил в юности как иностранный. Как не добавить тут, что русский еврей Бродский удивляет многих американцев и англичан глубиной понимания английского поэтического языка. Итак, когда Нобелевскую премию по литературе получил Дерек Уолкот, самым логичным представлялось поговорить о нем с Иосифом Бродским, удостоенным нобелевской награды пятью годами раньше. — У вас неплохой обычай — вместо того, чтобы дружить с “нобелями”, вы заводите друзей, которые “нобелями” становятся. — Я действительно страшно рад. Рад, что это именно Дерек. — Как вы познакомились? — Это год 76-й или 77-й. Был такой американский поэт, замечательный — Роберт Лоуэлл. Мы с ним, можно сказать, дружили. В один прекрасный день мы сидели и предавались рассуждениям — кто чего стоит в поэзии по-английски. И он мне вдруг показал стихи Дерека Уолкота, это было длинное стихотворение “Starappled Kingdom”, что-то вроде “Звездно-яблочного царства”, такой вот идиотский перевод. На меня это произвело довольно сильное впечатление. А с другой стороны, я подумал: ну замечательное стихотворение, но ведь замечательные стихи пишут все. 250 Через некоторое время Лоуэлл умер, и на похоронах его мы с Дереком впервые встретились. И оказалось, что у нас один и тот же издатель — Роджер Страус (нью-йоркское издательство “Фаррар, Страус энд Жиру”. — П.В.). Если теперь прибавить Дерека, он выпускал книги двадцати нобелевских лауреатов. Так вот, в издательстве я взял сочинения Уолкота и тут понял, что то стихотворение не было, как говорят, отдельной творческой удачей, не было исключением. Особенно сильно мне понравилось длинное, в книгу длиной, автобиографическое сочинение в-стихах — “Another Life”, “Иная жизнь”. Вы знаете, во всякой литературе существуют, особенно на определенном этапе, такие основополагающие (на какой-то период) произведения. У нас это “Возмездие” Блока, или потом “Лейтенант Шмидт” Пастернака, или там еще что-нибудь. То, что создает в поэзии как бы новую погоду. Вот “Иная жизнь” — такая новая территория. Не говоря о том, что территория, описываемая в этих стихах, буквально другая — и психологически, и географически. И методы описания несколько специфические. Потом, году в 78-м или 79-м, мы оба, Уолкот и я, оказались членами жюри журнала “Международная литература сегодня”, который издается в Оклахоме и раз в два года вручает премию, ее получали Эудженио Монтале, Элизабет Бишоп и другие. Там тринадцать человек членов жюри, и каждый предлагает своего кандидата. Я предложил Милоша, а Уолкот — Найпола, это его почти земляк. Между прочим, слухи до меня доносят, что и в Стокгольме они шли голова в голову. Выиграл Уолкот, а они довольно большие друзья. — В Карибский район Нобелевская премия теперь попадет не скоро, а Найпол хоть и моложе Уолкота на два года, но и ему шестьдесят. — Но это в скобках. А в Оклахоме в финале — там такой олимпийский принцип, навылет, — оказались Милош и Найпол, и в результате выиграл Милош. Я понял, что Уолкот уступил своего кандидата моему, и спросил его, почему? Он говорит — и это показывает, что есть Уолкот как поэт, — он говорит, видишь ли, я уступил совсем не по той причине, какую можно представить. Дело не в опыте Восточной Европы, нацизме, Катастрофе и так далее. То, что происходило и происходит по сей день у нас в архипелаге, — ничуть не 251 уступает катастрофе поляков или евреев, в нравственном отношении особенно. Критерии, говорит Уолкот, совсем другие: мне нравится, когда за тем, что я читаю — будь то поэзия или проза, — я слышу некий гул. Гул сфер, если угодно. Так вот, у Найпола я этого не чувствую, а у Милоша — да. И с тех пор — не с этой фразы, а с Оклахомы вообще — мы очень сильно подружились. — Вы именно такое слово употребляете? “Друг” ведь куда сильнее, чем “friend”. — Вы знаете, это человек поразительного тепла. То есть от него исходит эманация. Причем это не какие-нибудь кашпировские дела, просто в самом деле — тепловая волна, да? Когда я с ним, я всегда в этом поле. Действительно, как будто он перегрет на солнышке, — учитывая то, откуда он взялся. — Я однажды был в компании, где находился Уолкот, и хорошо помню, что вокруг него все время стоял хохот. — Это правда. Он человек с фантастическим чувством юмора. Причем он ужасно живой, ему все время что-то приходит в голову. И вообще, чтобы он лежал, тьфу-тьфу, болел, скучал, гнил — этого я не помню. За последние двадцать лет это самый близкий мне человек среди англоязычных. Мы с ним были в самых разнообразных обстоятельствах в этом, да и в том полушарии. — Во всех сопутствующих присуждению Нобелевской премии статьях цитируются ваши слова: “лучший поэт английского языка”... — Я действительно так считаю. А меня цитировать им приходится потому, что я о нем писал, и много. Не то чтобы я этим горжусь... Хотя нет, горжусь, что это я? Горжусь и могу даже этим хвастать. — В книге “Меньше единицы” в статье об Уолкоте “The Sound of the Tide” (“Шум прибоя”) вы пишете, что Уолкот — вне школ. А в чем его, как вы выразились, “основополагающее” значение? О каких “новых территориях” идет речь? — В этой статейке я перефразирую Мандельштама: “Вот уже четверть века, как я <...> наплываю на русскую поэзию”. Уолкот вот так наплывает на английскую поэзию и теперь наплыл полностью. Чем он замечателен? Это классицистическая манера, которая не является альтернативой модернизму, а абсорбирует модернизм. Уолкот пишет размером, чрезвычайно разнообразен в рифме. Я думаю, что человека, который по-английски рифмует 252 лучше, чем Уолкот, — нет. Далее: он очень красочен. Цвет ведь, на самом деле, — это духовная информация. Если говорить о животных, то мимикрия — это больше, чем приспособление, да? Что-то это означает. За всем этим стоит довольно длинная история — ну хотя бы эволюция, а это немало, между прочим, побольше, чем история. Дерек — поэт адамический. То есть он, в конце концов, пришел из того мира, где не все осмыслено и не все поименовано. Этот мир не так уж давно и заселен. Не очень освоен западным человеком. Белыми. Там большинство пользуется еще понятиями, которые, в известной степени, еще не полностью опосредованы опытом и сознанием. — Что-то подобное мы наблюдаем в феномене латиноамериканского романа, где к мифу ближе, чем в рафинированной Европе или Северной Америке. — Дерек по расе — негр. У него там, правда, много намешано. Но когда вы рождаетесь подданным Британской империи и цветным, то оказываетесь в довольно диковинном положении. Если поприще ваше — культура, то выбор очень ограничен. Либо погрузиться в ностальгию по каким-то несуществующим корням, потому что традиции нет никакой, за исключением устной. Либо — отправиться в поисках приюта в культуру хозяев. Первое удобно, потому что там нет ничего, никакой терминологии, исключительно сантименты. — И потом, ты там первый. Я в молодости жалел, что не родился представителем какого-нибудь крохотного северного народца: к тридцати годам можно иметь собрание сочинений и все вытекающие последствия. — Во всяком случае, поддержку находишь себе моментально. Аудиторию и так далее. И думать особенно не надо, надо, главное, — чувствовать. — Во втором вами описанном случае конкуренция совсем иная, конечно. — Все сложнее. Вы попадаете в историю культуры, которую надо осваивать, с которой — бороться и так далее. Огромный мир, где сформулировано довольно много. Это может раздавить. Не говоря о том, что от твоих земляков постоянно идут упреки, что продался, как говорят, большевикам. — В данном случае — Большим Белым Людям. — Большим Белым Людям, да. Большой культуре. Но такова сила и интенсивность таланта Уолкота, как и Найпола, что они, придя ниоткуда, не просто и не 253 только освоили английскую культуру. Желание их найти себе место и найти миропорядок было таково, что они вместо того, чтобы обрести приют в английской культуре, пробурили ее насквозь и вышли с другой стороны еще большими чужаками, чем вошли. — Они не нивелировались в мощной традиции, а только закалились и еще усилили свою специфику. То есть раньше эта специфика была даровой, просто по происхождению — карибские влияния, африканские, индийские, — а потом стала настоящей индивидуальностью. Но коль скоро Уолкот и Найпол пишут по-английски, это на благо все тем же Большим Белым Людям. — Люди эти уже не те. И мир не тот. Благодаря таким, как Уолкот и Найпол, между прочим. А Дерек ведь получил классическое английское образование. Классическое английское колониальное образование. — Кстати, эта Сент-Люсия — удивительное место. Там доход на душу населения в десять раз меньше, чем в Штатах, а грамотность — девяносто процентов, на высшем мировом уровне. — Дерек учился в университете Вест-Индии, потом околачивался в Англии, путей разных было много. Но зоной его, его сферой стала поэзия. — Занятие принципиально индивидуальное. Но ведь Уолкот — еще и драматург. — Он занялся сочинением стихотворных драм, потому что: а) его интересовал театр и б) для того, чтобы дать массе талантливых людей, своих земляков, работу. В его пьесах много музыки, калипсо, чего хотите. Темперамент такой. Притом что страсти — вполне шекспировские. — Мне кажется, Дерек Уолкот — полномочный представитель некой характерной для нашего времени плеяды. Прежде всего, он сам как нельзя лучше отвечает вашим строчкам: “Если выпало в империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря”. Вот Уолкот, вот Найпол — с Карибских островов. Годом раньше Нобелевскую премию получила Надин Гордимер из Южной Африки. Там же, в ЮАР, есть Готци, которого вы сами не раз называли одним из лучших англоязычных прозаиков. Есть Салман Рушди. В Стокгольме, говорят, обсуждается кандидатура ирландского поэта Шеймуса Хини. Все это цвет прозы и поэзии на английском языке, и все это — не англичане, не американцы, все аутсайдеры. Что происходит? — Происходит то, о чем сказал еще Йейтс: “Центр 254 больше не держит”. И он действительно больше не держит. — Империя хороша руинами? — Не столько руинами, сколько окраинами. А окраина замечательна тем, что она, может быть, конец империи, но — начало мира. Остального мира. И вот на окраине империи, где-то на острове в Карибском море появляется человек, который начинает читать Шекспира. Шекспира и все остальное. Он не видит легионов, но он видит волны и пальмы, и кокосовые орехи на берегу, как шлемы погибшего десанта. — Уолкот пишет же: “Море — наша история”. И в другом месте: “Мой народ возникал как море, без названья, без горизонтов”. А у вас, между прочим, в северо-западном углу другой империи, тоже было море, тоже имеющее первостепенное значение, если судить по этим стихам: Я родился и вырос в балтийских болотах, подле серых цинковых волн, всегда набегавших по две, и отсюда — все рифмы, отсюда тот блеклый голос, вьющийся между ними, как мокрый волос... Если окраина империи, центр которой “не держит”, империи, которая распадается, как наша, или уже распалась, как Британская, если все это столь плодотворно, то не стоит ли ждать сюрпризов от российских окраин? — Надо надеяться, нечто аналогичное произойдет. Хотя у нас все эти окраины не отделены друг от друга географически, представляют собой некое континентальное целое. Поэтому такого ощущения отрыва от центра нет. А это очень важное, по-моему, ощущение. И людям, говорящим по-английски, есть смысл поблагодарить географию за то, что есть вот эти острова. Но тем не менее и в случае с Россией может что-то сходное произойти, исключать этого не следует. — Мне кажется, молодость той культуры, которую — вместе с традиционной — несет человек имперской окраины, связана и с объяснимой смелостью, если не сказать — дерзостью. Вот, например, Уолкот отважился на эпос: его 325-страничный “Омерос” — переложение “Илиады” и “Одиссеи” на карибский лад. Эпос в наше время — не анахронизм ли? — Не знаю. Для писателя — нет. Для читателя — нет. — Почему же современного эпоса не существует или почти нет? — А потому, что у всех кишка тонка. Потому что мы 255 все более и более тяготеем к малым формам: все это естественно. Ну нет времени у людей — у писателя, у читателя. И конечно, в попытке эпоса есть момент нахальства. Но “Омерос” — это замечательные стихи, местами фантастические. Но настоящий эпос Уолкота — это “Иная жизнь”. — И традиционно: насколько Дерек Уолкот знаком с русской литературой? — Он знает прекрасно, в английских переводах, Пастернака и Мандельштама — и очень от них внутренне зависим. До известной степени, где-то между ними он сам и находится как поэт. Уолкот — поэт фактуры, детали, и это его сближает с Пастернаком. А с другой стороны, — отчаянный тенор Мандельштама... Я помню, в той же Оклахоме мы сидели, болтали и выпивали. Дело в том, что там всем членам жюри давали по бутылке виски “Баллантайн” в день, а Дерек тогда уже не пил и отдавал это мне. И я его развлекал тем, что переводил по памяти, строчка за строчкой, разные стихотворения Мандельштама. И помню, какое сильное впечатление на него произвела строчка “И над лимонной Невою, под хруст сторублевый/ Мне никогда, никогда не плясала цыганка”. Дерек был просто вне себя от восторга. И потом он сочинил стихи, посвященные моей милости, где он эту строчку обыгрывает. Еще он мне не раз помогал, переводя вместе со мной мои стишки. — Я думаю, Уолкота в мандельштамовских и в ваших стихах, помимо прочего, привлекает классицистичность. Не зря он сам так тяготеет к античности и так ему нравится сопоставлять свой архипелаг с греческим. — Совершенно верно, у него эта тенденция чрезвычайно сильная — думать о своем архипелаге. Вест-Индском, как о Греции. Он переворачивает каждую страницу, как волну, — назад. Майкл Игнатьев[6]. Интервью с Октавио Пасом— Когда вы впервые услышали о Бродском? — Как ни странно, первое встреченное мной упоминание о Бродском было в одной статье Андре Бретона1, который сказал, что в условиях советской деспотии Бродский может рассматриваться как политический поэт; Бродский об этом высказывании, вероятно, не знал. Я запомнил, что есть в Советском Союзе молодой поэт, которого судили за то, что он писал стихи, и что его фамилия — Бродский. Прошло время, Бродский стал более известен на Западе, приехал в Америку, стал преподавать в каком-то университете. У меня тогда была профессура в Гарварде. Однажды на Рождество — это было в первой половине семидесятых2 — Гарри Левин, один из главных джойсоведов, пригласил нас с ________________ 1 Андре Бретон (1896—1966) — французский поэт, автор “Манифеста сюрреализма” (1924). 2 Речь идет, судя по всему, о 25 декабря 1973 года. 257 женой на обед. Там были еще какие-то его друзья, в том числе один знаменитый английский критик, сугубо теоретического толка, не помню, как его звали. Левин сказал, что еще придет молодой русский поэт с приятелем, молодым американским поэтом по имени Аарон1. В тот день был сильный буран, снег, ветер, и мы сомневались, доберутся ли они в такую плохую погоду. Но они появились, как будто буран втолкнул их в двери. Это было прекрасно. Он вошел и почти с порога ввязался в спор. Характер у него был очень полемичный. Это было как раз тогда, когда вследствие уотергейтского скандала Никсон вот-вот должен был потерять свое президентство. Я не знаю, с чего вдруг спор начался, потому что до того мы вовсе не говорили о Уотергейте, говорили о довольно абстрактных предметах — о влиянии Мильтона на английскую поэзию и всякое такое. Но Бродский начал разговор о моральном аспекте ситуации. Кто-то, кажется, сказал, что “нам не нравится ситуация в нашей стране”, и спросил его, что он по этому поводу думает. Получился довольно напряженный разговор. Дело в том, что сам я не склонен к такого рода морализированию. Я сказал что-то вроде того, что “вашими устами с нами как бы говорит русская душа, но современные американцы — прагматисты, наследники Уильяма Джеймса и прочих, с чьей точки зрения “славянская душа” — всего лишь литературный прием, лишенный реального содержания”. Я сказал также, что происходит недоразумение из-за культурных различий, что я, как мексиканец, тоже человек нездешней культуры, хоть я и прагматист. Он пустился в дальнейшие объяснения. Я сказал: “В известной степени вы повторяете мысли русского философа Льва Шестова”. Он сказал: “Вы знаете Шестова? Это замечательно, потому что в этой проклятой стране не с кем поговорить о Шестове”. И обнял меня. — После этого вы еще встречались? — Да, много, много раз. У друзей на Кейп Коде. Потом я пригласил его в Мехико2, мы участвовали в литературной программе на телевидении — Бродский, югославский поэт Васко Попа и я. Передача имела большой успех. Потом много раз в Нью-Йорке. Послед- ____________ 1 Джонатан Аарон. 2 1975 год. 258 ний раз в Атланте. Мы собирались встретиться в очередной раз, когда его жена (с которой мы тоже очень дружны) позвонила и сообщила нам о его смерти. Это было так печально. Он был такой замечательный человек, полный жизни, задиристый иногда, блестящий, саркастичный. Я полагаю, он бьш очень русский. Это ведь славянский характер, не правда ли, с большими перепадами? — О да. — Я его любил. Лондон 13 июня 1996 Перевод Л.Лосева Шеймус Хини[7]. Песнеслагатель (об Иосифе Бродском)Все, кто знал Иосифа Бродского, вполне отдавали себе отчет в том, что его сердечное заболевание серьезно и что оно, вероятно, сведет его в могилу, но поскольку в восприятии друзей он бьш не столько личностью, сколько неким принципом неразрушимости, признать, что над ним нависает непосредственная угроза, было трудно. Интенсивность и смелость его гения да и просто радостное возбуждение от общения с ним не позволяли думать, что его здоровье в опасности. Его мужественный стиль поведения, абсолютно исключающий всякую жалость к самому себе и сетования личного порядка, заставлял забыть, что и он смертен, как все остальные. Тем большей неожиданностью и горем оказалась его смерть. Он умер в январе в возрасте пятидесяти пяти лет. По необходимости говоря о нем в прошедшем времени, кажется, что наносишь оскорбление самой грамматике. У Иосифа было бесспорно одно замечательное свойство — почти хищная готовность к интеллектуальному действию. Разговор с ним всегда сразу начинался с вертикального взлета, и уже невозможно было снизить скорость. Иными словами, в жизни он олицетворял то, что более всего ценил в поэзии, — способность языка уводить тебя дальше и быстрее, чем ожидаешь, и таким образом устраивать побег за пределы личности с ее ограниченностью, с ее заботами. Я никогда не встречал никого, кто был бы менее терпим к словесной скуке. Он постоянно каламбурил, рифмовал, отклонялся от темы и возвращался к ней, неожиданно менял направление и повышал ставки. Слова были для него высокооктановым горючим, и он любил, чтобы они заносили его как можно дальше. Ему также нравилось отталкиваться от чужих высказываний, то экспромтом переиначивая их, то экстравагантно парируя. Однажды, например, в Дублине он пожаловался на необычную для наших краев жару. Я шутя посоветовал ему перебраться из Ирландии в Исландию, на что он мгновенно ответил с типичным веселым воодушевлением: “Но отсутствия смысла я тоже не переношу”. Переносить его отсутствие будет еще труднее. С того момента, когда мы познакомились в 1972 году в Лондоне, где он останавливался по пути из русского диссидентского прошлого в американское изгнание, его присутствие в моей жизни имело укрепляющий эффект. Сочетание блестящего ума и доброты, высочайшей требовательности и освежающего здравого смысла — все это поддерживало и очаровывало меня. Каждая встреча с ним помогала восстановить веру в возможности поэзии. Было нечто великолепное в том, как его изумляло полное невежество некоторых известных поэтов относительно требований избранного ими искусства. А внутренней собранности очень способствовало то, что он называл составлением “списка для прачечной”, то есть пройтись по списку современников, старых и молодых. Каждый из нас ратовал за своих любимцев, но в целом это было как встреча тайных единомышленников. Впрочем, все это о прелести личного знакомства с Бродским, что не столь важно, как его общественное значение. Я говорю об абсолютной убежденности Иосифа Бродского в надежности поэзии как силы добра — не столько “для пользы общества”, сколько для оздоровления индивидуального человеческого сознания, души. Он решительно отказывался запрягать коллективную телегу перед лошадью индивидуализма, напяливать униформу на сугубо личные переживания. “Масса” и “Муза” были для Иосифа понятиями противоположными. Но при этом он страстно желал восстановить поэзию как неотъемлемую часть национальной культуры США. Не то чтобы он хотел поэтических чтений на стадионах. 'Когда при нем вспоминали о том, какие толпы собирались на подобные мероприятия в Советском Союзе, он немедленно откликался: “А вы знаете, какую дрянь им приходилось выслушивать?” Иными словами, Бродский отвергал соединение политики с поэзией (“Единственное, что между ними есть общего, это буквы п и о”, — говорил он), но не потому, что он не верил в преображающую силу поэзии как таковой, а потому, что политические требования понижали критерий качества и могли привести к порче языка и, следовательно, к “понижению точки отсчета”, как он любил говорить, точки, с которой человеческие существа смотрят на себя самих и устанавливают свою систему ценностей. А его полномочия определять роль поэзии были, конечно, неоспоримы, поскольку к аресту и суду в шестидесятые годы и последующей ссылке на принудительные работы в Архангельскую область привела его принадлежность к поэтическому ремеслу, то бишь “социальному паразитизму”, по версии обвинителей. В результате его история стала международной cause celebre1, что обеспечило ему по прибытии на Запад уже готовую славу. Но вместо того, чтобы согласиться со статусом невинной жертвы и купаться в волнах радикального шика, Бродский сразу взялся за работу — начал преподавать в Мичиганском университете. Прошло, однако, совсем немного времени, и Бродский стал более известен благодаря тому, что он делал на своей новой родине, чем тому, что имело место на старой. Прежде всего, он наэлектризовывал аудитории чтением своих стихов по-русски, и его многочисленные выступления в семидесятые годы возродили в университетах страны традицию поэтических чтений, вернули им значительность. Бродский никогда не подлаживался к аудитории, не принимал простецкую позу, напротив, он возвышал свои выступления до уровня выступлений древних бардов. Голос у него был сильный, стихи он читал по памяти, его каденции великолепием и остротой ___________ 1 Нашумевший судебный процесс (франц.). 262 напоминали синагогальное пение, так что у слушателей возникало ощущение, что они соучаствуют в событии. Таким образом, его постепенно начали воспринимать в качестве представителя Поэзии как таковой. Для аудитории его голос звучал пророчески (хотя он и открещивался от роли пророка). Академическую публику он впечатлял глубиной своих познаний в области поэтической традиции — от античности и Ренессанса до современной поэзии на всех европейских языках, включая английский. И все же если Иосиф и морщился относительно своей пророческой роли, по поводу дидактической у него возражений не было. Никто так не любил устанавливать правила, как он. В результате росла его педагогическая слава, и некоторым особенностям его преподавательской манеры стали подражать. В частности, его требование, чтобы студенты учили стихи наизусть и декламировали их, имело существенное влияние на поэтические семинары в США, а его защита традиционных форм, его высокая оценка таких немодернистов, как Роберт Фрост и Томас Харди, также существенно повлияли на пробуждение старой поэтической памяти. Эта его деятельность достигла кульминации в 1991 году, когда, будучи поэтом-лауреатом США, он выступил со своим “Нескромным предложением”. Он говорил: “Почему бы не печатать поэзию миллионными тиражами, ведь стихотворение представляет собой “образчик человеческого интеллекта в действии”, ведь оно, стихотворение, говорит читателю: “Будь как я”. Более того, поскольку орудие поэзии — память, “она полезна будущему, не говоря уже о настоящем”. Она может помочь в борьбе с невежеством и является “единственной защитой от вульгарности в человеческой душе”. “Следовательно, она должна быть доступна каждому в нашей стране, и по низкой цене”. Такое сочетание откровенного вызова и страстной веры было для него характерно. Он всегда подносил трубу к губам и играл призыв к протесту, даже порой к протесту против самого себя. Он был в самом деле ходячим, говорящим примером мысли Йейтса о том, что поэзия рождается из внутреннего раздора. Это проявлялось во всем, что бы он ни делал, — от настойчивого стремления, рифмуя, превышать все лимиты скорости до неисправимо дерзкой дуэли с самой смертью (каждый раз, когда он оскаливался, чтобы откусить фильтр от очередной сигареты). Он горел не тем твердым драгоценным пламенем, которое Уолтер Патер считал идеалом, но иным — полыхающим, ревущим, изменчивым, непредсказуемым — и пышным, и страшным. Всякий раз, например, когда он произносил слово “тиран”, я радовался, что речь идет не обо мне. Он всегда предпочитал схватку один на один. Он атаковал глупость с тем же рвением, что и тиранию (в конечном счете для него это было одно и то же), и он был так же смел в разговоре, как в текстах. И тексты — это то, что нам остается от него, и он будет жить за черными печатными строчками в ритме поэтических размеров и прозаических рассуждений, подобно пантере Рильке, вышагивающей за черными прутьями клетки с непреклонным постоянством, опережающим любые определения и выводы. И еще он будет жить в памяти друзей, но для них будет дополнительная прелесть и печаль в сохраненных этой памятью картинках. В моем случае это будет то, каким я его впервые увидел: молодой человек в красной шерстяной рубашке, разглядывающий аудиторию и других чтецов взглядом одновременно тревожным, как у существ, ютящихся на краю обрыва, и острым, как у ястреба. Перевод Л.Лосева Источник: http://yanko.lib.ru/books/non-fiction/brodsky_work_and_days.htm 
Деград |

