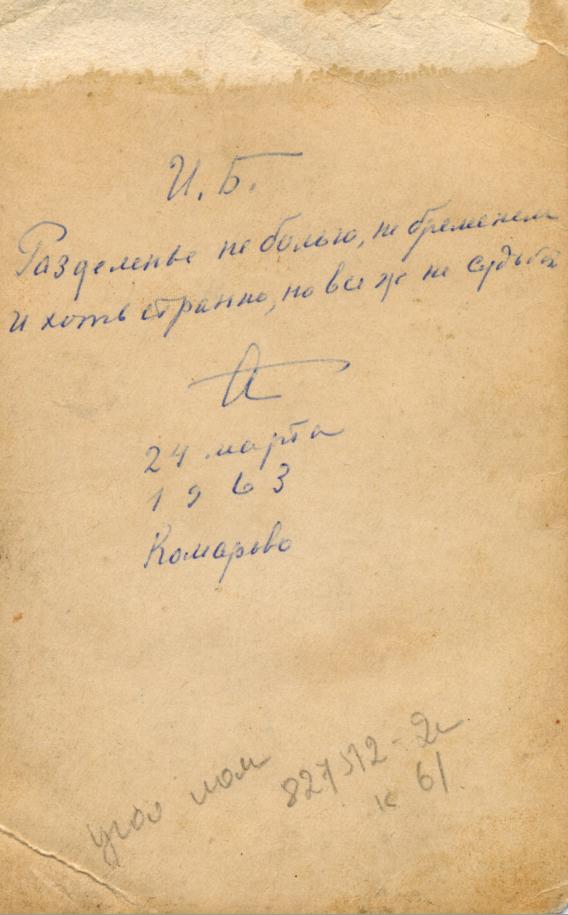|
Специальные ежемесячные бизнес-журналы для руководителей крупных предприятий России и СНГ
|
 |
Окна из алюминия в Севастополе — это новые возможности при остеклении больших площадей и сложных форм. Читайте отзывы. Так же рекомендуем завод Горницу.
Страницы сайта поэта Иосифа Бродского (1940-1996)

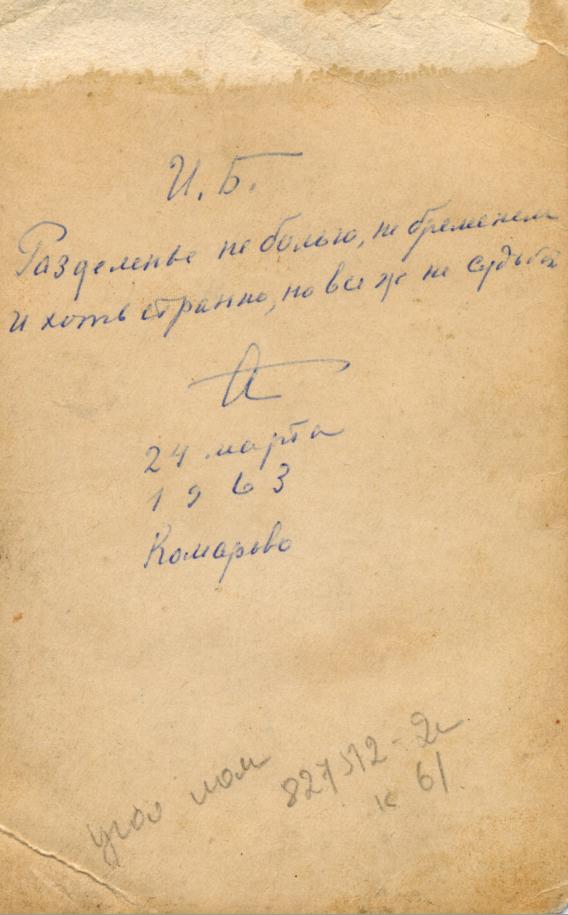
Получил письмо из Нью-Йорка от Наталии Шарымовой (Sent: Tuesday, October 09, 2007 8:26 PM).
К письму прикреплены два файла, которые читатель этой страницы только что рассмотрел.
Об этом замечательном снимке Наталья написала:
"Посылаю Вам фотографию, которую мне когда-то подарил Иосиф.
Это было после того, как он вернулся из ссылки.
Очень известная фотография, по-моему, М.С.Наппельбаума.
Анна Ахматова и Иосиф ехали вместе то ли в Москву, то ли из Москвы.
На обороте Анна Андреевна сделала надпись, комментирующую эту поездку.
Если Вы не сможете разобрать текст, то я пришлю Вам эти строки завтра.
Напишите мне, если куда-нибудь поместите на сайт.
Вообще-то я собираюсь отдать это фото в Музей Ахматовой".
Сердечно благодарю Наталью Шарымову за этот чудесный дар и помещаю ее снимок на сайт.

Вставка от 26.09.2008
Недавно нашел в Интернете 2 снимка молодой Наталии Шарымовой
и в телефонном разговоре 26.09.2008 (см. стр. 589) НШ подтвердила: это - она.
Источник: http://gorchev.lib.ru/ik/stihi/Photoes.html
Конец вставки от 26.09.2008
Я попросил Наталью пройтись с фотоаппаратом по местам прогулок
и всяческих встреч Бродского с друзьями в Нью-Йорке
и теперь буду ждать от нее новых снимков для сайта, а, может быть,
мы получим из ее коллекции снимки недавнего прошлого?
Замечательно, что наш сайт курирует такой специалист, как Галина Славская.
Сегодня получил от нее письмо (Sent: Thursday, October 11, 2007 8:23 PM):
Дорогой Саша, сейчас звонила Вам, но не застала. О 375: фото хороши, но комментарий Наташи показывает, что она не знает источника двух строчек на обороте. Это цитата из второго, малоизвестного стихотворения ИБ, написанного к дню рождения Ахматовой 24 июня 1962 года. Оно было впервые опубликовано в сборнике «ОБ АННЕ АХМАТОВОЙ» Стихи, эссе, воспоминания, письма. Лениздат, 1990. Дано там, как вторая часть известного стихотворения «Закричат и захлопочут петухи...» и содержит факсимиле рукописного письма ИБ, сопрововождавшего стихи: «Дорогая Анна Андреевна! Простите, бога ради, поспешность этих стихов. Я напишу Вам гораздо лучшие. Просто хотел успеть к дню Вашего рождения. Поздравляю Вас. Хочу, чтобы все вокруг Вас было так, как Вы хотите. Ваш И. Бродский»
Там же факсимиле «Последняя роза» Ахматовой с эпиграфом из Бродского «Вы напишете о нас наискосок. И.Б.» К сожалению, книга старая, напечатана на плохой бумаге, страницы пожелтели, шрифт выцвел. Если Вы не сможете найти книгу в Москве, я могу сделать копии этих страниц, но за качество не ручаюсь.
Ваша Галя
Галя, спасибо и за письмо и за телефонный звонок из Мерилэнда - срочно все выгрузил на сайт.
Конечно, это стихотворение Бродского давно уже помещено на страницы сайта (см. № 25).
Привожу его здесь полностью:
* * *
А.А.Ахматовой
За церквами, садами, театрами,
за кустами в холодных дворах,
в темноте за дверями парадными,
за бездомными в этих дворах.
За пустыми ночными кварталами,
за дворцами над светлой Невой,
за подъездами их, за подвалами,
за шумящей над ними листвой.
За бульварами с тусклыми урнами,
за балконами, полными сна,
за кирпичными красными тюрьмами,
где больных будоражит весна,
за вокзальными страшными люстрами,
что толкаются, тени гоня,
за тремя запоздалыми чувствами
Вы живете теперь от меня.
За любовью, за долгом, за мужеством,
или больше - за Вашим лицом,
за рекой, осененной замужеством,
за таким одиноким пловцом.
За своим Ленинградом, за дальними
островами, в мелькнувшем раю,
за своими страданьями давними,
от меня за замками семью.
Разделенье не жизнью, не временем,
не пространством с кричащей толпой,
Разделенье не болью, не бременем,
и, хоть странно, но все ж не судьбой.
Не пером, не бумагой, не голосом -
разделенье печалью... К тому ж
правдой, больше неловкой, чем горестной:
вековой одинокостью душ.
На окраинах, там, за заборами,
за крестами у цинковых звезд,
за семью - семьюстами! - запорами
и не только за тысячу верст,
а за всею землею неполотой,
за салютом ее журавлей,
за Россией, как будто не политой
ни слезами, ни кровью моей.
Там, где впрямь у дороги непройденной
на ветру моя юность дрожит,
где-то близко холодная Родина
за финляндским вокзалом лежит,
и смотрю я в пространства окрестные,
напряженный до боли уже,
словно эти весы неизвестные
у кого-то не только в душе.
Вот иду я, парадные светятся,
за оградой кусты шелестят,
во дворе Петропаловской крепости
тихо белые ночи сидят.
Развевается белое облако,
под мостами плывут корабли,
ни гудка, ни свистка и ни окрика
до последнего края земли.
Не прошу ни любви, ни признания,
ни волненья, рукав теребя...
Долгой жизни тебе, расстояние!
Но я снова прошу для себя
безразличную ласковость добрую
и при встрече - все то же житье.
Приношу Вам любовь свою долгую,
сознавая ненужность ее.
1962
Наталья Горбаневская
АХМАТОВА, БРОДСКИЙ И ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ
Статьи о поэзии ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
Та часть советской культуры, которая называлась самиздатом. Выступление на конференции «Что осталось от советской культуры» (Женева, июль 2000)
АХМАТОВА
Ворованный воздух. Выступление на конференции «Праведники ГУЛАГа» (Милан, декабрь 2003)
Как я порезала следователя
«...она научила меня жить будучи стихотворцем». Из интервью «Знаешь, где он — твой уют?». Н.И.Попова, О.Е.Рубинчик. Анна Ахматова и Фонтанный Дом. СПб, «Невский диалект», 2000. 159 с., ил. (Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме).
Свидетели ахматовской эпохи. Анна Ахматова: последние годы. Рассказывают Виктор Кривулин, Владимир Муравьев, Томас Венцлова. СПб, «Невский диалект», 2001. (Музеи Санкт-Петербурга к 300-летию города. Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме).
Умерим восторги. Анна Ахматова. Собрание сочинений. В 6 т. [Т.] 1. Стихотворения. 1904-1941. [Сост., подгот. текста, комм., статьи Н.В.Королевой]. М., «Эллис Лак», 1998.
БРОДСКИЙ
Из Стокгольма — с любовью
По улице Бродского
Три половинки карманной луковицы. Иосиф Бродский. Примечания папоротника. [Bromma, Sweden, 1990]. Joseph Brodsky. Dйmocratie! (Piиce en un acte). Trad. du russe par Vйronique Schiltz. [Die, France], «A Die», [1990]. Двуязычное издание.
Иосиф Бродский — размером подлинника. Иосиф Бродский. Размером подлинника. Сборник, посвященный 50-летию И.Бродского. Составитель Г.Ф.Комаров. Таллин, 1990.
Поэзия, поэтика, поэт. Иосиф Бродский: творчество, личность, судьба. Итоги трех конференций. СПб, журн. «Звезда», 1998. 320 с. 1000 экз.
«...уж-ж-жасно интересно!». Как работает стихотворение Бродского. Из исследований славистов на Западе. Ред.-сост. Л.В.Лосев и В.П.Полухина. М., «Новое литературное обозрение», 2002. (Научное приложение. Вып.XXXVI). 303 с. 2000 экз.
«......И ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ
«...Что такое «авторская песня»? Авторская песня. Антология. Сост. Дмитрий Сухарев. Екатеринбург, «У-Фактория», 2002. 605 с. Тираж 10 тыс.
«...Благодарение за поэта. Геннадий Айги. Отмеченная зима. Собрание стихотворений в двух частях. Издание подготовила В.К.Лосская. Предисловие Пьера Эмманюэля. «Синтаксис», Париж, 1982.
«...«...и зрение, и слух, и дух, и тело...». Димитрий Бобышев. Зияния. ИМКА-Пресс, Париж, 1979.
«...Вестник молодой поэзии. Вавилон. Вестник молодой литературы. №1 (17). Гл. ред. Дмитрий Кузьмин. Художник Вадим Калинин. М., ВГФ им. Пушкина, 1992. (Союз молодых литераторов «Вавилон»). 80 стр. Тираж 999 экз.
«...Томас Венцлова — «Человек пограничья». Конференция и праздник в Сейнах
«...Сорок восемь стихотворений Сергея Вольфа. Сергей Вольф. Маленькие боги. СПб, Ассоциация современной литературы «Камера хранения», [1993].
«...Поэзия «есть миг — не ремесло». Сергей Вольф. Розовощекий павлин. Книга стихов. [Предисл. А.Битова]. М., «Два Мира Прин», 2001. 144 с., ил.
«...Памяти Виктора Ворошильского
«...Не «человек из мрамора». Памяти Юрия Галанскова
«...Голоса Александра Галича. К пятилетию со дня смерти
«...Сквозь цензуру — с любовью. Юлий Даниэль. «я все сбиваюсь на литературу...» Письма из заключения. Стихи. Сост., авт. вступит. статьи и комментария А.Ю.Даниэль. М., «Мемориал» — «Звенья», 2000. 895 с., ил., именной указатель.
«...«Как заика, пытаюсь сказать неказистое слово...»
«...Урок чтения. Предисловие к книге Манука Жажояна «Случай Орфея» (СПб, [журн. «Звезда»"], 2000)
«...Два крылышка. Кристина Зейтунян-Белоус. Хищные дни. — Насекомые. Стихи. Париж, 2000. 35 ненум. с.
«...ЗОНА. Зона. Стихи. Сост. Н.Домовитов. Пермь, Пермское кн. изд-во, 1990. 356 с.
«...Михаил Красильников — один из... «Даугава», 2001, №6, ноябрь-декабрь. Раздел «MEMORIA as LITTERIS» (с.57-145)
«...«Несколько странной кажется мне и главная мысль поэмы...». Александр Кушнер. Аполлон в снегу. Заметки на полях. Л., «Советский писатель», 1991.
«...«Это плакало сердце России..». Семен Липкин. Воля. Анн Арбор, «Ардис», 1981.
«...Мы в восторге от доктора Лира. Эдвард Лир. Книга бессмыслиц. Рисунки автора. Перевод с английского Марка Фрейдкина. [Предисловие Н.Демуровой]. М., «Рудомино», 1992.256 с. 10 000 экз. «...только рифмы не отдам»
«...Лев Лосев. Собранное. Стихи. Проза. Екатеринбург, «У-Фактория», 2000. 623 с.
«...Такая, значит, музыка. Ирина Машинская. После эпиграфа. Нью-Йорк, «Слово-Word», 1996.
«...«Речь — отчизна...». Интервью в связи с выходом перевода «Поэтического трактата» Чеслава Милоша (Анн Арбор, «Ардис», 1982)
«...«...стихи — не мёд...». Юнна Мориц. Из книги «Мускулы воды». // «Огонек», 1988, №21.
«...«А по серцях наших копита, копита...» Нездоланний дух. Мистецтво i поезiя українських жiнок, полiтв’язнiв в СССР. Балтимор-Чикаго-Торонто-Париж, «Смолоскип», 1977. — На укр. и англ. яз.
«...«Давай, брат, воспарим...» Памяти Булата Окуджавы
«...Анастаз Опаcек — зэк, священник, поэт. Анастаз Опасек. Выжженная земля. Мюнхен, «Поэзия в изгнании», 1980. — На чешск. яз.
«...Если у тебя есть фонтан...
«...«Меж землей и синью эмпирей». Ольга Рожанская. Стихи по-русски. Москва, «А», 1993.
«...Василь Стус в жизни, творчестве, воспоминаниях и оценках современников. Василь Стус в життi, творчостi, спогадах та оцiнках соучасникiв. Упорядкували i зредагували Осип Зiнкевич i Микола Француженко. Балтимор-Торонто, Украiнське вид-во «Смолоскип» iм. В.Симоненка, 1987
ДВЕ ПОЭТИЧЕСКИХ ТУСОВКИ
Сойтись ли вместе Востоку и Западу? Заметки с краковской встречи поэтов
Из письма внучке
О СЕБЕ
Языковые проблемы поэта в изгнании. Выступление на расширенной редколлегии «Континента» (Милан, май 1983)
ДОРОГА И ПУТЬ. Из непроизнесенного
Об особенно запомнившемся в жизни дожде. Письмо Диме Кузьмину
«Не всякому языку даден такой датчанин». К 200-летию со дня рождения Владимира Даля
ПРИЛОЖЕНИЕ: ГИМН
«Этот стон у нас гимном зовется»
Музыка Александрова, слова... опять Михалкова.
Когда в феврале прошлого (2003) года, после двух лет волонтерства в едва не закрывшейся, но нашими общими трудами выжившей «Русской мысли», я из газеты наконец ушла (будучи к тому времени уже на пенсии), у меня возник замысел собрать написанное мною за десятилетия эмиграции в книгу. Замысел этот (книга под названием «Прозой») и сейчас не близок к осуществлению: многое еще нужно разыскивать, копировать, сканировать - а когда все это будет завершено, разобраться, отобрать, расставить по местам и т.п. И только потом искать потенциального издателя.
Однако уже сейчас по великодушному предложению моих давних друзей из «Камеры хранения» я решаюсь поставить на сайт «Новой камеры хранения» подборку своих статей, выступлений, рецензий о поэзии и поэтах. Это, возможно, не исчерпывает всего, что я на эту тему писала, но все-таки представляет меня в таковом качестве довольно полно.
Я кое-как расклассифицировала свой материал: после вступительного текста о самиздате идут разделы «Ахматова», «Бродский», «...и все остальные» (в алфавите поэтов или названий коллективных сборников), два репортажа о поэтических сборищах и раздел «О себе», довольно короткий (всего четыре текста). Однако прав был мой друг и коллега Анатолий Копейкин, однажды сказавший мне: «Почему, о ком бы ты ни писала, обязательно пишешь о себе?» - «Ну вот так, иначе не умею», - ответила я. И когда он же требует, чтобы я писала мемуары, я говорю: «Да у меня же все уже напечатано». Поэтому да простит мне читатель: это не «нарциссизм» (в котором обвинил меня один возмущенный читатель «РМ» после публикации моей статьи о Дале) - просто «иначе не умею».
Кое-где я позволила себе добавить нынешние примечания и дополнения, снабдив их пометой «Прим. (или Доп.) 2004», иногда же вставляя прямо в текст в квадратных скобках. Остальные примечания были в текстах оригиналов или (в одном случае) в тексте более поздней перепечатки.
Настоящий текст, восстановленный по кратким, полуразборчиво набросанным тезисам, не точно соответствует моему выступлению на заседании конференции, а скорее представляет собой то, что я хотела и из-за спешки не вполне успела сказать. Однако кое-что мне удалось еще произнести публично при прощальном застолье (в частности тот анекдот, с которого выступление должно было начинаться и с которого теперь начинается предлагаемый текст), кое-что - в кулуарах, кое-что, правда, осталось «в уме», но все это вместе, быть может, более точно отразит мою точку зрения.
Напомню старый, но по-прежнему мой любимый анекдот.
Сидит человек в кафе. «Официант, чашечку кофе и газету «Правда"». - «Чашечку кофе - пожалуйста. Газеты «Правда" нет, советская власть кончилась». Тот опять: «Чашечку кофе и газету «Правда"». Официант (с некоторым удивлением): «Чашечку кофе - пожалуйста. Газеты «Правда" нет, советская власть кончилась». - Посидел еще: «Чашечку кофе и газету «Правда"». Официант, выведенный из терпения: «Чашечку кофе - пожалуйста. Газеты «Правда" нет, советская власть кончилась - я же вам говорил!» Посетитель (сладостно-восторженно): «Говори, милый, говори!..»
Вот и мы здесь так же: советская власть кончилась, и мы - «говорим, милый, говорим».
Я буду говорить о том явлении советской культуры, которое тоже кончилось - если не вместе с советской культурой (судя по ходу конференции, вопрос о ее полной кончине остается открытым), то по крайней мере вместе с советской властью. О самиздате - на мой взгляд, главном средстве сопротивления советской культуре и, шире, советской цивилизации и разрушения ее изнутри.
Чтобы оценить его значение, напомню, что самиздат (вместе с «тамиздатом») дал четырех русских лауреатов Нобелевской премии: кроме Пастернака, Солженицына, Бродского, еще и Андрея Сахарова.
Говоря о самиздате, я и «экспонент», и «экспонат» - практик самиздата: машинистка, автор (стихов, но не только), редактор, журналист. К стихам, с которых начинался в 50-е годы самиздат, я вернусь дальше. Сначала же несколько слов о публицистике, журналистике, о правозащитном самиздате, чем я во второй половине 60-х и занималась. Здесь удобный случай возразить Игорю Виноградову, который, выступая до меня, настаивал на том, что «шестидесятники» в массе своей были одушевлены социалистическими взглядами. Но тогда я и мое поколение, т.е. люди, наиболее активные в 60-е годы, к «шестидесятникам» не принадлежим (что меня вполне устраивает). Во второй половине 60-х мое поколение, на несколько лет младше тех, о ком говорил Игорь, было - за малыми, может быть, исключениями - настроено откровенно антисоветски и антисоциалистически. Тех, кого теперь принято называть «шестидесятниками», мы называли «либеральной интеллигенцией» - не без оттенка иронии. Хотя, конечно, она была частично и средой поддержки правозащитников и самиздатчиков.
Эта антисоветская и, повторяю, антисоциалистическая настроенность почти не находила прямого, декларативного выражения в самиздате. И не только из-за того, что это было опасно. Нет, скорее потому, что эти взгляды были столь естественны, столь само собой разумелись, что их не надо было даже декларировать - ни в самиздате, ни в частной жизни («на кухне»). Декларировалось другое - права человека, не идеология, а идея, притом способная объединить всех. И, кстати (это опять к выступлению Игоря Виноградова), религиозному сознанию никак не противоречившая.
На идее защиты прав и свобод человека, в первую очередь свободы информации, стояла «Хроника текущих событий». На фоне оголтелой советской пропаганды «Хроника» была не «контрпропагандой», а той добросовестной журналистикой, какой не была и не могла быть советская печать. Не секрет, правда, что в некоторых документах самиздата тоже иногда воцарялось то, что я в то время называла «поэтикой эпитетов», то есть жажда словесно покрепче «приложить» - «мордой об стол». В противоположность этому, «Хроника» стремилась быть чистой по стилю и тону, исключительно несущей информацию, безоценочной. Оценки приходилось давать в крайне редких случаях. Приведу один из них. В 69-м году в Москве были арестованы, признаны невменяемыми и отправлены в психиатрическую больницу специального типа члены национал-большевистской организации. В самиздате появился памфлет, автор которого выражал злорадство по этому поводу. «Хроника», где регулярно появлялись обзоры самиздата, была вынуждена отметить, что не следует злорадствовать, когда людей за какие бы то ни было взгляды бросают в психиатрическую тюрьму.
«Хроника» была ограничена своей тематикой: борьба за права человека и преследования всех, кто так или иначе осуществлял эти свои права. Но в рамках этой тематики она давала информацию как можно более полную и точную. Вообще самиздат был «советским» не только по хронологической принадлежности к советскому периоду истории - он еще и отражал советскую действительность, т.е. делал то, чего от советской литературы на словах требовали, на деле же никак не допускали. Одновременно он раздвигал границы официальной литературы.
Так, на наших глазах переходила из самиздата на страницы издаваемых книг ранее запрещенная русская поэзия ХХ века. Медленно, с препятствиями и далеко не вся, но все-таки. Самиздат, как я уже упомянула, и начинался с поэзии, продолжая старую традицию хождения стихов в списках. Стихи перепечатывали, переписывали от руки (самиздатом становились даже некогда изданные, но затем исчезнувшие книги: я сама году в 56-м от руки переписала «Столбцы» Заболоцкого). В 57-м я впервые увидела «Воронежские тетради» Мандельштама, перепечатанные на машинке, как только Н.Я.Мандельштам выпустила их из рук. Позднее я и сама активно участвовала в «тиражировании» «Реквиема» Ахматовой.
Были и другие формы, близкие к самиздату. Об одной из них, называвшейся тогда «магнитиздатом», здесь говорил Владимир Новиков. Был и такой, довольно древний способ распространения стихов, как публичное чтение. Но поскольку речь шла о стихах заведомо «непечатных», постольку и это становилось формой самиздата. Многие помнят - мне однажды в зале Чайковского случилось быть очевидцем этого, - как Мария Вениаминовна Юдина, когда ее вызывали на «бис», вместо того чтобы сесть за рояль и играть, читала стихи Пастернака. А в моей жизни был совершенно необычайный случай: году в 67-м меня внезапно пригласили в Политехнический музей, предложив рассказать о встречах с Ахматовой. Там был такой вполне советский вечер: поэты поизвестнее представляли поэтов понеизвестнее, а перед моим выступлением было сказано: «Здесь каждый из выступающих привел с собой друга, а вот такая-то была знакома с Анной Андреевной Ахматовой и как бы привела ее к нам». Слова довольно глупые, но я знала, что буду говорить об Ахматовой, и соответственно подготовилась, взяла с собой машинописи. Я рассказала о ней как умела, прочитала свои стихи, с которыми когда-то впервые пришла к Ахматовой, а потом прочла - в Политехническом музее! - эпилоги «Реквиема» и «Поэмы без героя». Можно себе представить, как звучало в этом советском зале:
А за проволокой колючей,
в самом сердце тайги дремучей
я не знаю, который год,
ставший горстью лагерной пыли,
ставший сказкой из страшной были,
мой двойник на допрос идет...
Авторами самиздата были все великие и многие меньшие русские поэты ХХ века. Самиздат принимал все поэтики, кроме той, что господствовала в советской поэзии: ему было неважно, что, например, Ахматова и обериуты не принимали друг друга. Самиздат открывал поэтов при жизни или много лет спустя после смерти, как то произошло, скажем, опять-таки с обериутами.
Тут я позволю себе покинуть тему самиздата как такового и попытаться найти хотя бы частичный ответ на вопрос, как эти поэты выживали или погибали. Как они жили в этой пресловутой советской культуре (или в стороне от нее) и во вполне реальной советской стране. Какой образ пребывания в ней выбирали и как это влияло на избранную для них советской властью форму смерти. Думаю, нельзя ограничиться утверждением, что это была чистая лотерея.
Как и кого советская власть убивала из «своих» - не моя тема. Поэты, при жизни или посмертно ставшие авторами самиздата, были ей чужие. Но и их, однако, истребили не всех. Ахматова написала: «Ровно десять лет ходила под наганом...» На самом деле она «ходила под наганом» не десять, а десятки лет, но выжила. Мне, конечно, приятно думать, что ее оставили в живых для того, чтобы мы, ее младшие современники, смогли ее не только прочитать, но и увидеть, услышать, вживую ухватить не до конца порванную связь времен. Но, конечно, советская власть этого не планировала, да и вопрос вообще не о цели, а о причине.
Ахматова в поздние годы любила пожаловаться на то, что какой-то критик еще, кажется в 25-м году объявил ее мертвой. Но я думаю, что критик лишь сделал вывод из того, что она успешно прикинулась мертвой - мертвой, т.е. неопасной. Так она прожила почти все 20-е и все 30-е годы, самые опасные для жизни. Она так успешно прикинулась, что ей даже дали пенсию (в далеко не пенсионном возрасте), позволили напечатать литературоведческие работы, а в конце концов, в 40-м году, - и издать книгу избранных стихов. Но уже эта книга, хоть и покалеченная цензурой, обнаружила, что Ахматова жива и мертвой только прикидывается. Еще яснее это стало в годы войны, когда вообще появилось ощущение, что дышать и жить можно. В результате на Ахматову навели наган «нового типа» - постановление 1946 года.
Если бы так мог в 30-е годы вести себя Мандельштам! Тоже чужой, ненужный, кого советская власть вполне могла бы забыть. Но он все время, что называется, «высовывался»: то писал сатиру на Сталина, то оду ему же, что равно тревожило и обращало на него внимание; то чего-то требовал от Союза писателей, этого филиала «органов»; то «наплывал» на русскую литературу, которой по определению быть не могло - только советская. И так далее. Как это кончилось - всякий знает.
И вот люди иного поколения - обериуты. Поразительно: они были репрессированы все и практически все погибли - выжил, пройдя лагеря, один Заболоцкий. Это было иное поколение, нежели Ахматова и Мандельштам, поколение, на которое советская власть рассчитывала. Вроде бы «свои», именно те, кому полагалось поднимать и растить советскую культуру: газетчики, детские журналисты... Оказалось - не «свои». Потому-то, думаю, расправа была такой тотальной и беспощадной.
Закончу недавно написанным стихотворением, которое называется «10 = 9» и посвящено памяти обериутов. С эпиграфом: «...писали бы ямбом...»
Где в ореоле черных солнец,
вещей глаголом переполнясь,
они шутили, как гасконец,
по русским скачущий снегам,
там их за ямбы ждал червонец,
и за хореи ждал червонец,
и за верлибры ждал червонец
без переписки - девять грамм.
Публикуется впервые
Ворованный воздух.
Выступление на конференции «Праведники ГУЛАГа» (Милан, декабрь 2003)
В один прекрасный декабрьский день 1962 года мне случилось стать участницей события, на мой взгляд, необыкновенно важного: будучи в гостях у Анны Ахматовой, в одной из московских квартир, где ей оказывали гостеприимство, я - как многие другие в те дни - получила разрешение переписать ее «Реквием». Этот цикл стихов (или поэма - насчет жанра мнения расходятся, но не это важно) был написан в 1935-1940 гг., во время разгула сталинского «Большого террора». Много лет его слышали лишь считанные друзья поэта, в большинстве запомнившие стихи наизусть. Ни сама Ахматова, ни ее немногочисленные слушатели никогда не доверяли «Реквием» бумаге. Но после того как в ноябре 1962 года в «Новом мире» был напечатан «Один день Ивана Денисовича», Ахматова подумала, что, может быть, наступило время и для «Реквиема». И оно действительно наступило, но не для печатной публикации в Советском Союзе, где после очередной кратковременной оттепели быстро начались новые заморозки. Наступило время выйти «Реквиему» в самиздат.
Протягивая мне шариковую ручку, Анна Андреевна сказала: «Этим карандашиком перед вами переписал «Реквием" Солженицын». Но кроме меня и Солженицына - этим ли, не этим ли «карандашиком» - «Реквием» переписали у Ахматовой десятки людей. И, конечно, каждый или почти каждый, вернувшись домой, сел за пишущую машинку. Я сама отпечатала, наверное, десятка два закладок по четыре экземпляра в каждой. Раздавая «Реквием» друзьям и знакомым, я каждый раз выдвигала простое требование: «Перепечатаете - один экземпляр возвращаете мне». И дальше все шло по новому кругу. Так только через мои руки распространились сотни экземпляров «Реквиема», а общий его самиздатский тираж достиг по меньшей мере нескольких тысяч.
Уже после смерти Ахматовой, в день моего ареста, 24 декабря 1969 года, переписанный мною от руки экземпляр с титульным листом, который написала сама Анна Андреевна, был изъят у меня на обыске. Но меня за «Реквием» хотя бы не судили (судили за другое), а вот несколько лет спустя на Украине «хранение и распространение» «Реквиема» стало одним из пунктов приговора Рейзе Палатник - цикл Ахматовой был квалифицирован как «заведомо ложные измышления, порочащие советский государственный и общественный строй».
Что ж такого страшного было в лирических стихах, рассказывающих, если говорить упрощая, о горе матери, у которой арестован сын? Чего не мог вынести в них «советский государственный и общественный строй»?
Примерно в те же годы, что Ахматова сочиняла «Реквием», здесь, на земле Италии, югославский коммунист Анте Чилига, чудом вытащенный из ГУЛАГа, написал книгу о своем советском опыте и назвал ее «Страна сногсшибательной лжи». Он писал не только о своем гулаговском опыте, но и о жизни на советской «воле». Уже тогда, в конце 30-х, тем, кто не боялся раскрыть глаза, было ясно, что ложь - один из устоев тоталитарной системы. Без опоры на ложь не мог бы выжить тоталитаризм никакого цвета: красного, черного, коричневого... Любое слово правды подтачивает и расшатывает этот устой, что и привело в конце концов к крушению самого долгого тоталитаризма ХХ века и распаду выстроенной им советской империи.
«Блаженны алчущие и жаждущие правды», - заповедал нам Христос. Для нас, живших под гнетом советской лжи, пропаганды, новоречи, имеющаяся здесь в виду правда-справедливость сливалась в одно с правдой-истиной. Но слово поэзии, сказала бы я, тем более такой поэзии, как у Ахматовой, - это не просто голая истина, оно больше - озарение, откровение.
«Муж в могиле, сын в тюрьме. Помолитесь обо мне», - пишет Ахматова в «Реквиеме». Читатель воспринимает это не как простое сообщение о том, что ее первый муж поэт Николай Гумилев был расстрелян большевиками при Ленине, а ее единственный сын Лев Гумилев - посажен большевиками при Сталине. Читатель может даже не знать этих деталей биографии поэта, но сердце ему пронзает трагедия миллионов русских женщин, молчащих - как ошибочно принято говорить, безымянных, - но сказавших свое устами великого поэта.
В открывающем «Реквием» прозаическом отрывке под заголовком «Вместо предисловия», говорится:
«В страшные годы ежовщины я провела семнадцать месяцев в тюремных очередях в Ленинграде. Как-то раз кто-то «опознал» меня. Тогда стоящая за мной женщина, которая, конечно, никогда в жизни не слыхала моего имени, очнулась от свойственного нам всем оцепенения и спросила меня на ухо (там все говорили шепотом)
- А это вы можете описать?
И я сказала:
- Могу".
За них, быть может, «никогда в жизни» не слыхавших ее имени, говорит Анна Ахматова:
...мы повсюду те же
Слышим лишь ключей постылый скрежет
Да шаги тяжелые солдат.
Подымались, как к обедне ранней,
По столице одичалой шли,
Там встречались, мертвых бездыханней...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Как трехсотая, с передачею,
Под Крестами будешь стоять
И своей слезою горячею
Новогодний лед прожигать.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Семнадцать месяцев кричу,
Зову тебя домой,
Кидалась в ноги палачу,
Ты сын иль ужас мой.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
И я молюсь не о себе одной,
А обо всех, кто там стоял со мною
И в лютый холод, и в июльский зной
Под красною ослепшею стеною.
И здесь же просит она ставить ей памятник, «если когда-нибудь в этой стране» его «воздвигнуть задумают»:
...здесь, где стояла я триста часов
И где для меня не открыли засов.
«Реквием» - одна из вершин поэзии Анны Ахматовой, но я не хотела бы, чтобы меня поняли так, что высота этой вершины достигнута лишь за счет тех, чьим голосом здесь говорит Ахматова, тех, о ком она сказала:
Для них соткала я широкий покров
Из бедных, у них же подслушанных слов.
Это она, Анна Ахматова, личность, индивидуальность, могла не только описать пережитые ею события, но и произнести «бедные, подслушанные слова» своим «неповторимым голосом». Выражение «неповторимый голос» она употребила применительно к другому поэту, но каждый поэт, если он действительно поэт, а не наемный лжец на службе господствующего режима, каждый есть неповторимый голос. И это еще одна причина, по которой десятки лет нас лишали огромных пластов великой русской поэзии ХХ века, по которой не пропускали в печать нарождавшуюся молодую поэзию. Голос поэта - это отдельный голос: голос личности, а не коллектива, даже тогда, когда он, как Ахматова в «Реквиеме», говорит за миллионы. Этот голос, о тюрьме ли он говорит или о любви, обращается к читателю тоже отдельному, один на один, отвлекает его от коллективных задач, от очередных директив очередного пленума ЦК партии. И помогает ему почувствовать себя личностью, а не винтиком в отлаженном механизме «утопии у власти».
И сотни, тысячи этих отдельных читателей (но не будем преувеличивать, не миллионы - миллионы питались жвачкой того, что называлось советской поэзией), желая читать то, что хотят, и другим подарить эту свободу чтения, создали чудо, известное под названием самиздат. На допотопных пишущих машинках поначалу распространялись извлеченные из забвения или небытия стихи - та поэзия, о которой смело можно сказать словами Мандельштама «ворованный воздух». Позже в самиздат пошла и проза, и документы, и информация, и исторические труды, и философия, и богословие, и - оборвем перечень. Но начинался самиздат с поэзии, и вам, надеюсь, уже ясно, что это было вполне логично: не только в том дело, что стихи короче и перепечатать их можно быстрее, а прежде всего в том, что «ворованный воздух» давал чем дышать.
Неслучайно и первым самиздатским журналом стал «Синтаксис» Александра Гинзбурга со стихами молодых поэтов конца 50-х. В «Синтаксисе» был впервые напечатан будущий нобелевский лауреат Иосиф Бродский. Там же впервые появились тексты уже начавших расходиться на магнитофонных пленках песен Булата Окуджавы. Ограничусь этими двумя дорогими для меня именами и подчеркну: в трех выпущенных Гинзбургом номерах журнала практически не было стихов политического содержания, но издатель был арестован и отсидел за свой журнал два года - первые два года из будущей суммы его лагерных сроков.
За поэзию у нас платили - тюрьмой, лагерем, бывало, что и гибелью, как Гумилев и Мандельштам; в послесталинские «вегетарианские» годы - опять-таки лагерем, психбольницей или хотя бы конфискацией машинки на обыске. Конечно, платили далеко не все поголовно, но рисковал каждый. Каждый, кто зимой 1962-1963 года переписывал на машинке только что запущенный в самиздат «Реквием» Ахматовой, рисковал ночным стуком в дверь, обыском, арестом. И каждый это знал. И продолжал в ночной тишине стучать по клавишам.
Публикуется впервые
На дворе стоял 1969 год. За два месяца между обысками (23 октября и 24 декабря) у меня снова накопилась груда самиздата, и районный следователь Шилов, непривычный к политическим делам (на то ему в помощь были приданы два типа из КГБ), составляя протокол, время от времени обращался ко мне же за помощью. Во время обыска всегда выплывают мелочи, которых раньше было не отыскать. Так нашлось бритвенное лезвие, которым я немедленно - зная, что сегодня меня не просто обыщут, но заберут, - принялась точить карандаши для старшего сына-школьника. Оно было у меня в руке, когда Шилов протянул мне очередной «документ», предназначенный к изъятию: как, мол, это лучше записать в протокол? Едва увидев, что он собирается изъять, я бросилась отнимать у него сколотые скрепкой листки, восклицая: «Что вы берете! Это же автограф Ахматовой!» - и... в короткой и непобедоносной схватке зацепила его бритвой по косточкам пальцев. Потекла кровь, один из гебистов в восторге кинулся к телефону, извещать «моего» следователя Акимову, что Горбаневская оказала вооруженное сопротивление, напала на Шилова... Уже решенный арест получал дополнительное обоснование, а главное, неизмерима была чекистская гордость: в кои-то веки натолкнулись на «вооруженное сопротивление».
Увы, я порезала следователя нечаянно. При всем моем пресловутом экстремизме насильственные действия никогда меня не увлекали и вид крови не одушевлял. Я даже извинилась перед Шиловым, о чем он позднее упомянул на суде, но это не помешало следствию и суду к моей «политической» сто девяностой прибавить обвинение в оказании сопротивления сотруднику следственных органов при исполнении служебных обязанностей (статья подразумевает сопротивление умышленное и насильственное).
То, что у меня хотели изъять - и изъяли, - был сделанный моей рукой список текста «Реквиема» с титульным листом - автографом Ахматовой.
Я переписывала его в гостях у Анны Андреевны в Москве (в тот момент своей кочевой московской жизни она жила у Маргариты Алигер) в декабре 1962 или начале января 1963 года. Дату можно было бы уточнить: она есть на автографе (спасенном в конце концов, но мне сейчас недоступном).
Анна Андреевна сказала мне: «Перед вами тут был Солженицын и тем же карандашиком тоже переписал весь текст» («карандашиком» она называла шариковую ручку). Когда я кончила переписывать и попросила Ахматову надписать мой экземпляр, она не просто его надписала, но сделала целый титульный лист - так красиво, как она одна умела.
Вернувшись от Анны Андреевны, я немедленно принялась перепечатывать «Реквием» на всех доступных мне машинках (своей тогда еще не было). Я сделала по меньшей мере пять закладок в четыре копии и все их раздавала с условием: перепечатать и мне вернуть мой экземпляр плюс еще один. А потом снова пускала в оборот. Мои два десятка (если не больше) экземпляров породили самое меньшее сотню. В целом же, по моим расчетам (известно, что многие действовали, как я), в первые же месяцы «тираж» самиздатского «Реквиема» перевалил за тысячу.
В мае 1963 года в Ленинграде я подарила один машинописный экземпляр «Реквиема» Анджею Дравичу. Когда в том же году у Ахматовой появилась беленькая книжечка «Реквиема», кто-то сообщил ей, что текст был получен из Польши. Анна Андреевна с деланным неудовольствием приговаривала:
- Ох, Наташа, не надо было давать «Реквием» этому поляку... - полуулыбалась и, особо глубоким голосом растягивая гласные, прибавляла: - Ну, конечно, я понимаю: такой красивый поляк...
Я называю имя Дравича лишь потому, что, встретившись со мной много лет спустя на Западе и выслушав эту историю, он почти смущенно признался, что он тут ни при чем. И все-таки попавший на Запад экземпляр «пошел» от моего списка. В этом меня убедила ошибка в одной строке текста: вместо «под кремлевскими стенами выть» в книжке стояло «под кремлевскими башнями выть». Я возмутилась, кинулась к своему рукописному списку - это была моя описка! Теперь она закреплена во всех изданиях, вплоть до нынешней публикации в «Октябре». Зоя Томашевская, которая приводит разночтения текста по сравнению с магнитофонной записью чтения Ахматовой в 1965 году, этого разночтения не указывает. Чем это объяснить, не знаю: мне помнится, что на «башни» вместо «стен» указала сама Анна Андреевна. К счастью, мой список был одним из многих, и есть возможность проверить и, если надо, восстановить эту строку либо хотя бы зачислить ее в варианты.
В 1967 году мне выпала редкая возможность - публично, с трибуны Политехнического музея, прочитать отрывки из «Реквиема». Я еще не была заклейменной, и кто-то* позвал меня участвовать во вполне официальном выступлении молодых поэтов. Мы пошли туда с Ларисой Богораз, Толей Марченко и недавно освободившимся после десятилетнего заключения Леней Ренделем. Там надо было не просто читать стихи, а о чем-нибудь «интересном» рассказать. А у меня был с собой «Реквием».
- Я была знакома с Ахматовой, - сказала я, или, что более вероятно, тот кто-то, кто меня пригласил, сказал: - А Наташа была знакома с Ахматовой.
- Вот и прекрасно, - воскликнул организатор и, выйдя на сцену, объявил, что у нас-де сегодня каждый представляет публике своих друзей (в чем это состояло, убей Бог, не помню), а вот такая-то расскажет об Анне Ахматовой. Я рассказала - немного: я не очень умею «рассказывать об Ахматовой», я ее всегда созерцала с таким трепетом, что потом почти ничего «интересного» не могла вспомнить. А в заключение прочла из «Реквиема», положив на трибуну крамольные машинописные листки, - «Это было, когда улыбался...» («Вступление») и обе части «Эпилога»**. И как это звучало в Большой аудитории Политехнического музея, в полной, сосредоточенной тишине. Впрочем, наверно, тише всех сидели те, кто «недосмотрел» и допустил такую «демонстрацию»...
Что же до изъятого на обыске списка (закапанного кровью!), то поднятый вокруг него шум привел к тому, что летом 70-го года, после суда, «Реквием» оказался в числе немногих бумаг, возвращенных моей маме. Стало быть, признан некриминальным. Что не помешало годом позже одесскому суду включить «Реквием» в приговор по делу Рейзы Палатник как пункт, доказывающий ее вину в «изготовлении и распространении заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй»...
Чудно, что «Реквием» не забрали на предыдущем обыске. Впрочем, оставил же на месте гебист, оба раза осматривавший книжные полки, западный (тогда другого и не было) том Мандельштама. (Не тот из пары, что с шумной радостью звонил по телефону, - второй.) И остался же в ящике моего письменного стола, тщательно обысканного следователем Шиловым, конверт с аккуратно приготовленными материалами к 11-му выпуску «Хроники текущих событий»...
«Русская мысль» №3671, 12 мая 1987
* Александр Аронов. - Прим. 2004.
** Поскольку статья - о «Реквиеме», тут ничего не сказано о чтении эпилога «Поэмы без героя». Зато в вышепубликуемом выступлении о самиздате, где рассказан тот же случай, упущено вступление к «Реквиему». - Прим. 2004.
...Самым главным из того периода [«времен «подполья", из жизни в Советской России», по формулировке интервьюера] было, безусловно, знакомство с Ахматовой. Это решило всё в моей жизни.
Я и раньше пыталась познакомиться с ней. В июне 61-го года Дима Бобышев повез меня в Комарово, но, когда мы приехали, оказалось, что она в Москве. Я училась тогда на заочном в Ленинградском университете и два раза в год ездила сдавать сессию. А зимой с 61-го на 62-й не ездила, потому что незадолго до того родила. И вот зашла в «Литературную газету», где работал мой близкий друг Валентин Непомнящий, и говорю: «Скоро еду в Ленинград, меня познакомят с Ахматовой». А Галина Корнилова, в будущем тоже моя близкая подруга, говорит: «Ахматова сейчас в Москве, пойди познакомься». Я говорю: «Ну что ты, как я пойду». - «Нет-нет, вот тебе телефон, позвони». - «Может, ты сама позвонишь?» - «Нет, звони». Позвонила, испытывая неловкость: «Хочу прийти, почитать стихи». У меня была идея, что не стоит надоедать великим поэтам с какими-то там моими стихами. Она говорит: «Приходите». И назначила прямо на послезавтра. Я пришла на Ордынку, к Ардовым. Вышло очень хорошо, что я не попала к ней на год раньше. Потому что у меня перед тем в смысле стихов был очень плохой период. Хотя писала довольно много, я их потом почти все выбросила. Крайне неудачный был период.
А тут, весной 62-го года, я успела написать несколько стихотворений, включая два моих, условно говоря, «классических» - «Как андерсовской армии солдат...» и «Концерт для оркестра». И Анне Андреевне они очень понравились. Она и мне сказала, что понравились. Это всякому можно сказать, чтоб человека не обидеть. Но на следующий день сразу позвонила Галя Корнилова и сказала, что очень понравились. Анна Андреевна скоро должна была ехать в Комарове и пригласила меня заходить...
И вот я приезжаю в Ленинград, подхожу к университету, кого-то встречаю, может Асю Пекуровскую или еще кого... я не так уж много знала там людей... и этот кто-то мне: «А говорят, Ахматовой понравились твои стихи». Моя слава бежала впереди меня. Мои ленинградские друзья раньше полупризнавали меня за то, что москвичка... Женщина - это еще они могли простить, но - москвичка! Но тут как бы признали вполне. Ну, может, я преувеличиваю. Перед тем, правда, у меня не было таких хороших стихов. Есть хорошие стихи периода 56-61-го годов, но это после страшной чистки, которую я позднее произвела. А там была масса непроваренных, непрожеванных стихов, попыток сочинительства. Так что они даже правы были, не вполне меня признавая.
Итак, с мая 62-го и до января 66-го года - последний раз я видела Анну Андреевну в Боткинской больнице - я регулярно виделась с Ахматовой, когда ездила в Ленинград. Кроме того, в то время она подолгу жила в Москве, и я навещала ее в разных московских домах. Она не все время была на Ордынке. Почему-то надо было постоянно из дома в дом переезжать, и вот пару раз я ее перевозила - брала такси, заезжала за ней...* Машин тогда практически ни у кого не было.
Она действительно меня любила, это я могу сказать. Я же, когда ее видела, - будто каждый раз орден получала, и ни за что, незаслуженный. Но самое главное было даже не это. Самое главное - что я с ней начала становиться человеком. Потому что я стояла на очень скользком пути. А скользкий путь - это что такое? Для поэта, я считаю, вообще опасно в молодости, для женщин - еще более опасно... - это, условно говоря, выбор такой «цветаевской» позиции. Я очень увлекалась Цветаевой как поэтом, как человеком. Вот, поэт - это нечто необыкновенное, уникальное, вот, поэт ходит один среди людей и притворяется непогибшим... Такая романтическая, блоковско-цветаевско-байроновская линия очень опасна. Она может дать прекрасные стихи в случаях очень сильного таланта и натуры, но натуру может и разрушить.
Меня Ахматова не отучала от любви к Цветаевой, меня общение с Ахматовой отучило... Я видела, что Ахматова знает себе цену, знает, что она - великий поэт. Не в таких словах, может быть. Знает, что такого русского поэта больше нету. Но она не играет эту роль. Нету того, что называется «ролевое поведение» и что, повторяю, очень опасно, а для девочек - особенно.
У меня это случилось вовремя. Мне было 26 лет, я была еще достаточно молода, чтобы с этого пути свернуть... Хотя уже тогда лучшие стихи писались сами... Я это еще не вполне понимала. Какое-то время очень сильно пыталась писать стихи, быть героем своих стихов...
Был такой случай, свидетелем его я не была, но мне очень быстро пересказали - то ли кто-то из ленинградцев, то ли Миша Ардов. Как-то к Ахматовой пришла чтица по фамилии Бальмонт... Как говорили мальчики, на афишах покрупнее - «Бальмонт», помельче - «Блок» (она читала Блока). Так вот, она посидела у Анны Андреевны, а уходя - так восторженно ей сказала: «Говорят, у вас есть «Поэма без чего-то"? »
Ахматова была счастлива, развеселилась невероятно и всем это рассказывала. Я очень люблю эту историю, и теперь вот вам тоже задаю вопрос: что было бы с Цветаевой, если б ей сказали: «Говорят, у вас есть «Поэма чего-то"? » Она бы этого человека убила на месте. Она бы писала кому-нибудь трагические письма. И я начала все больше отходить от Цветаевой, у меня начали раскрываться на нее глаза, на стихи и на прозу.
Я знала, что она великий поэт. Но это такой чужой и враждебный мне мир. Скорее, не он мне, а я ему враждебна. Он мне не враждебен, потому что я для него не существую. Мир человека, зацикленного на себе самом. Поэт - с большой буквы. Творец - с большой буквы. Творца с большой буквы мы пишем только Одного. А поэта с большой буквы писать вообще никогда не надо, по крайней мере по-русски. Нельзя. Даже Пушкина я не пишу поэтом с большой буквы. Поэт и поэт.
В те же годы, 63-64-й, читаю письма Цветаевой к Тесковой, все ее жалобы на жизнь. Читаю: «В Праге жить ужасно. Хочу в деревню». Приезжает в деревню: «В деревне жить ужасно». Потом приезжает в Париж: «Ах, милая Прага!» Это человек, которому везде было плохо. Я могла стать такой - я точно стояла на этом пути. Но я давно уже человек, которому везде хорошо. Ахматовой в Москве было хорошо и в Комарове было хорошо - точно существовали два географических места, где ей было хорошо. А в Москве - и на Ордынке, и у Марии Сергеевны Петровых - дома, где я у нее часто бывала и где бывала после ее смерти. Не было у нее этих жутких жалоб. Мы читаем у Чуковской, как Ахматова трудно жила: иногда ей кто-то помогает, а иногда никто не помогает. Но нет такого, как у Цветаевой: «Ах, почему я, бедная, должна мыть посуду?» Почему?! Я тоже не люблю мыть посуду. И если у меня кто-нибудь моет, это очень приятно, а если нет – я не делаю из этого мировую трагедию.
И я действительно от всего цветаевского отвратилась. Может быть, одно стихотворение Цветаевой до сих пор люблю. Из «Верст» 16-го года:
Вот опять окно,
Где опять не спят,
Может, пьют вино...
и так далее. Оно как будто еще почти и не цветаевское, не трагическое. Я не говорю, что нельзя трагического. У Ахматовой очень много трагического. Но у Цветаевой трагедия - это значит: никто так не страдал, не страдает, не будет страдать, как страдает она, и в общем-то никто не поймет, как она страдала... Но если не поймет - то зачем писать?
Я стала и остаюсь очень резкой антицветаевкой. Хотя кто любит Цветаеву, это человека в моих глазах никак не дисквалифицирует.
Ахматова меня не учила писать стихи**, но она научила меня жить будучи стихотворцем, внушила иерархию ценностей. Не ставить себя на первое место. Знать себе цену, но не требовать, чтобы все ходили, тебя ценили, носили на руках и так далее. Итак, знакомство с Ахматовой - вообще главное событие в моей жизни. За жизнь тамошнюю, здешнюю, какую ни считай. Самое главное.
«Русский базар» (Нью-Йорк», 2003, 20 февр., №9/357), печатается с небольшими исправлениями
* Когда Анна Андреевна звонила мне на работу, в Книжную палату, коллеги надо мной смеялись: «Ты перед ней по телефону стоишь по стойке «смирно"». - Доп. 2004.
** Это как будто противоречит моим же стихам «Я из тех, кого она / научила говорить», но на самом деле не противоречит: между «учить» и «научить» расстояние, как между «помнить» и «вспомнить». - Доп. 2004.
«Знаешь, где он - твой уют?».
Н.И.Попова, О.Е.Рубинчик. Анна Ахматова и Фонтанный Дом. СПб, «Невский диалект», 2000. 159 с., ил. (Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме).
Книга, подготовленная в стенах музея Ахматовой, - не альбом, несмотря на альбомный формат, высокое качество полиграфии и наличие большого числа иллюстраций, и не путеводитель, разве что по жизни. Подробно - по жизни Анны Ахматовой, но еще и по неотделимой от нее жизни нескольких советских десятилетий истории России. Вдобавок, правда, и по той «симфонии петербургских ужасов», как называла Ахматова два предыдущих века. Ибо история Фонтанного Дома началась не с Ахматовой, зато была ей известна и отразилась в стихах, прозаических набросках и «Поэме без героя».
Это скромное музейное повествование в четырех главах я рискнула бы назвать небольшим историческим романом, у которого два главных героя: Фонтанный Дом и жившая в этом доме, но в сущности всю жизнь остававшаяся бездомной поэтесса. И множество действующих лиц: владельцев, насельников, жильцов (знаменитое «Профессия - жилец» на ахматовском пропуске), поэтов, филологов, возлюбленных, детей, друзей. Династия Шереметевых, начинающаяся «Шереметевым благородным», фельдмаршалом Петра I, единственным, кто отказался подписывать приговор царевичу Алексею, и завершающаяся его правнуком, покинувшим Петроград после «самоубийства русской государственности» (отречения Николая II).
«После Октябрьского переворота Шереметевы собрались в московском доме на Воздвиженке. Оставаться в России становилось опасно, но покинуть ее казалось немыслимо. 13 ноября 1918 года С.Д.Шереметев писал князю Н.С.Щербатову: «Дорогой Князь, Вы знаете, ныне арестованы после обыска четыре сына и оба зятя... мне нездоровится, да и трудно поправиться... » Через месяц граф Сергей Дмитриевич Шереметев умер.
Род Шереметевых распался: одни эмигрировали, многие из тех, кто остался в России, подверглись репрессиям".
Репрессии, аресты, обыски, слежка, гибель от пули или в лагере - расхожий мотив на страницах этого романа, как был он расхожим в жизни «стомильонного народа». Мы встречаем здесь не только всем известные имена: Гумилев, Мандельштам, Пунин (и его знаменитые солагерники), Лев Гумилев... Но вот, например, упоминается человек, с которым некогда вел философские разговоры юный Лева, а в сноске сообщается:
«Николай Константинович Миронич (1901-1951) - лингвист-востоковед, друг семьи Пунина и частый посетитель их дома. Погиб в лагере".
Или вот чуть более развернутая история:
«Когда-то, еще в 1918 году, Пунин и Полетаев писали в своей книге «Против цивилизации», конструируя путь к будущему, к созданию нового общества: «Отдельные индивиды могут, конечно, пострадать или погибнуть, но это необходимо и гуманно и даже спорить об этом - жалкая маниловщина, когда дело идет о благе народа, расы и, в конечном счете, человечества». История показала, что этих «отдельных индивидов» оказалось 20 миллионов, среди них - Пунин, Полетаев и почти все, с кем они начинали создавать «новый мир»".
Сноска: Е.А.Полетаев погиб в лагере в 1937 году.
И на этом фоне - жизнь Анны Ахматовой. Нет, не «на фоне». Этот «фон» и была ее жизнь. Особенно в те десятилетия, которые она провела в стенах Фонтанного Дома. «Дворцы и нищая жизнь в них» - такой вариант названия одной из глав фигурирует в плане книги воспоминаний Ахматовой «Мои полвека» (да если бы только нищая!). Воистину она, такая, казалось бы, ни на кого непохожая, была тогда со своим народом (там, где он, к несчастью, был), была как все - и в тюремной очереди, и в коммуналке. В самом начале этих десятилетий, в 1922 г., она писала:
Я - голос ваш, жар вашего дыханья,
Я - отраженье вашего лица.
Но это, если не знать предстоявшего, еще можно счесть обычным поэтическим оборотом. То же - да не то ж, не «я» отдельно, «вы» отдельно, не «голос», не «отраженье» и даже не «А это вы можете описать? - Могу», а какое-то запредельное приобщение - звучит 24 года спустя:
Со шпаной в канавке
Возле кабака,
С пленными на лавке
Грузовика.
Под густым туманом
Над Москвой-рекой,
С батькой-атаманом
В петельке тугой.
Я была со всеми,
С этими и теми,
- и лишь в последнем двустишии своей одинокой трагедией она вдруг отъединяется, от-общается:
А теперь осталась
Я сама с собой.
Под стихами - дата и место:
1946. Август
Фонтанный Дом
«Русская мысль» №4345, 14 дек. 2000
Свидетели ахматовской эпохи. Анна Ахматова: последние годы. Рассказывают Виктор Кривулин, Владимир Муравьев, Томас Венцлова. СПб, «Невский диалект», 2001. (Музеи Санкт-Петербурга к 300-летию города. Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме).
В прошлом году, в «РМ» №4359, Татьяна Вольтская писала о первом выпуске серии воспоминаний, задуманной сотрудниками Музея Ахматовой в Фонтанном Доме, - «Петербург Ахматовой: семейные хроники» Зои Томашевской. Музей издал следующую книгу - на этот раз об Ахматовой рассказывают люди, знавшие ее лишь в последние годы жизни, из самых младших ее современников. (Младших-то младших, но двое из них - Виктор Кривулин и Владимир Муравьев - не дожили до выхода книги.) Воспоминания (выступления на вечерах или личные беседы-интервью) записала, подготовила к печати, снабдила детальными содержательными примечаниями (они заняли больше половины книги) Ольга Рубинчик.
Знакомство с Ахматовой у каждого из трех мемуаристов складывалось по-своему. Кривулин, пришедший к ней в 1960 г. шестнадцатилетним, говорит:
«Мы все глупые тогда были. (...) Но ей ужасно нравилась эта наивность. Насколько я понимаю, она нуждалась в моем удивлении, в такой реакции, которая в другом возрасте уже невозможна. Я думаю, что у нее была очень глубокая человеческая связь с подростками. Она вообще любила подростков - девочек, мальчиков. С ними она чувствовала себя необыкновенно свободно".
Кривулин замечательно описывает Ахматову и общение с ней (заметив, впрочем, что «общение» - это не ее слово):
«Это была, конечно, школа. Школа поэзии как состояния. Как театра и не театра. Как такого бытия, где нет границы между подмостками и бытовой жизнью. Все время был какой-то внутренний расчет: каждое слово взвешено, продумано, как оно будет сказано, интонировано, обыграно. И тут не так важна была тема - сама речь доставляла наслаждение. Она превращалась в интеллектуальную игру (...) Это не было чем-то натужным. По многим воспоминаниям Ахматова предстает человеком, возведенным на котурны. Нет, этого не было, Ахматова - очень разумный человек. А была постоянная игра с историей, с людьми, с ситуациями. (...)
И вот главное: результат был такой, что каждый раз, возвращаясь от Ахматовой, я ощущал себя каким-то значительным человеком. (...)
Это были, конечно, странные разговоры. Если перевести их на бумагу и не интонировать, как она интонировала, то ничего особенного не получится. Но интонация сообщала гениальный стиль произнесения. Какой-то такой дополнительный смысл, который сейчас уже восстановить невозможно".
Томас Венцлова попал к Ахматовой, по его словам, «очень поздно» (он ведь на семь лет старше Кривулина): сначала случайно, в начале 60-х, а всерьез - только в 1964-м, и затем он принес ей книжку литовских переводов ее стихов, где были и его переводы. Помню, Анна Андреевна при мне сказала, что, по словам Вяч. Вс. Иванова, из всех переводов ее стихов на все языки самые лучшие - переводы Томаса Венцловы на литовский. В одну из московских встреч (которая оказалась последней) Анна Андреевна внезапно спросила Томаса: «Легко ли меня переводить?» Тот ответил: «Очень трудно. Я переводил Пастернака, и там я позволял себе отсебятину. Когда переводишь Ахматову, отсебятины допускать нельзя, надо, чтобы было более или менее слово в слово и при этом сохранялся рисунок стиха. И вот это безумно трудно».
«Она, - продолжает Томас, - ответила: «Я так и думала», - и была очень довольна".
О стихах, своих и чужих, Ахматова думала много, неустанно, притом и как поэт, и как очевидец их (стихов, и не только современных ей) жизни, и как историк и даже теоретик литературы. Томас Венцлова приводит ее слова, которые он тогда же, вернувшись от Ахматовой, записал в дневник:
«Блока сейчас не любят. Одни молодые люди говорят, что его стихи - это как бы непреходящее, но не нужное, а другие, прыткие, просто совсем не принимают. Он ведь великий поэт («великий» было сказано с нажимом), а ничто от него не пошло. Мы же были изгои, нас так ругали, как сейчас никому и не снилось. А от акмеизма все пошло. Мандельштама никто не знал, не знал, а потом после смерти - такое!"
Самым замечательным в этой книге мне представляется весь блок материалов Владимира Муравьева (1939-2001). Начинается он с материалов о нем: его собственных «Автобиографических кроков» и написанного после его смерти очерка Григория Померанца - и продолжается уже собственно ахматовскими материалами: две мемуарных беседы и короткая, но очень глубокая заметка «Бег времени. Примечания к названию Седьмого сборника стихотворений Анны Ахматовой», написанная при ее жизни, в 1963 году.
Придя впервые к Ахматовой в конце 1962 или начале 1963-го, Володя Муравьев сказал ей, что «Поэма без героя» - его постоянное чтение.
«Она очень удивилась, потому что это тогда было совсем не так часто".
И он «как-то неожиданно, может быть, даже незаслуженно завоевал некоторое ее доверие и несколько особое отношение». Думаю, все-таки заслуженно, недаром он пишет, что они «виделись каждый раз непременно», когда она приезжала в Москву или когда Володя приезжал в Ленинград, - «всего около ста раз». Замечу, что, бывая в те же годы (но явно меньше ста раз) у Ахматовой и одна, и при других гостях, я Володю ни разу не встретила (хотя не раз встречала у Н.Я.Мандельштам). Впрочем, и сам он говорит:
«У нее, скажем, со мной было отдельное общение. Часа полтора-два мы сидели и разговаривали".
В «Записных книжках» Ахматовой есть запись:
«В.М., которому уже 23 года, пишет о поэме: «Вечный допрос? - Нет. Нечто более реальное - тождество поэзии и совести, расплата стихами»... (и дальше)".
Приведем это «дальше», так как фрагменты «Заметок» В.Муравьева (полная публикация которых состоится в книге Н.Крайневой и Ю.Тамонцевой «К творческой истории «Поэмы без героя») подарены нам в комментариях:
«Тождество истории и биографии, гордость и ясность взгляда. И чудо: поэзия оказывается искуплением, звуконепроницаемость могильной действительности нарушена:
И я слышу даже отсюда -
Неужели это не чудо! -
Звуки голоса твоего.
Торжество: могилы откликаются на звук. Торжество: найден тот уровень сознания и видения, на котором звуки складываются в реквием".
В общении с Ахматовой Муравьеву открывался тот «тайный контур» ее поэзии, который в те годы восстанавливался во всем, что строилось вокруг «Поэмы» - «центрального дела жизни Ахматовой»: в творчестве, жизни, разговорах, помыслах. В этом контексте он вспоминает, например, свои впечатления от ее прозы о Модильяни:
«Я был, наверное, первым перепечатчиком этой прозы. Она мне читала, а я печатал на машинке".
Но Володя был не только собеседником и перепечатчиком - они с Ахматовой многое вместе читали. Встречаются в воспоминаниях Муравьева упоминания такого рода:
«Вот в «Ромео и Джульетте» она дивные строки нашла. Мы с ней читали насквозь. Она меня к этому приспосабливала, в качестве словаря и отчасти комментатора".
А на вопрос, много ли Ахматова сидела с ним над книгами, Муравьев отвечает:
«Что значит - над книгами? Это уж слишком широко получается. Бывало, мы с ней сидели, иногда просто разбирали что-нибудь, как «Кориолана» Шекспира, как «Книгу Иова». Кафку мы читали подробно, как и «Божественную Комедию», точнее говоря, третью песнь «Ада»".
Так сильно, как, пожалуй, никто до сих пор, говорит Владимир Муравьев о том особом чувстве, которое испытывали все мы, кому повезло в молодости встретиться с Ахматовой:
«С ней разговаривая, я чувствовал себя действительно в стороне от дикого безобразия советской действительности, я как бы приобщался... к контексту мировой культуры".
И в то же время - удивительное равенство двух собеседников (Ахматова вообще умела и любила говорить с людьми на равных*):
«А бывало, мы просто начинали спорить, какие ее стихи, какие мандельштамовские стихи лучше, какие фетовские стихи, так сказать, главнее. (...) Я ей сказал, что вот эту струю черной страсти у Фета я не очень люблю. Тут мы не сходились. А в чем-то, наоборот, очень сходились, какие-то находились у нас общие строчки".
Хочу в заключение привести две концовки двух бесед-воспоминаний Владимира Муравьева, такие непохожие друг на друга по настроению и такие важные для понимания Ахматовой и ее эпохи.
«Ну и очень, конечно, страшно было, очень страшно - ее похороны. (...)
По сравнению с этим похороны Пастернака можно назвать интеллигентским райским видением. (...) А здесь - этот ужас мартовского Ленинграда, это темное кладбище со злобной руганью, с бдительными топтунами через каждые десять метров, с ерничающим Михалковым. Вообще начальство вибрировало и тряслось. В Ленинград, что называется, препроводили. Если бы начальство соображало, оно бы устроило все это в Москве. Но оно именно, так сказать, выпроводило, чтобы в Москве этого не было. А Москва хорошо проводила великого русского поэта: обнаженный труп Анны Андреевны три дня лежал в подвалах морга - по случаю праздника Восьмого марта. Таковы были проводы, которые устроила советская Россия. Достойные проводы. Именно это она от них и заслужила.
...А в Анне Андреевне была, как это ни странно, какая-то неумолчная, такая постоянная тихая веселость. И это было поразительно".
«Жизнь Ахматовой последних лет неотрывна от поэзии, как неотрывна от поэзии жизнь всякого поэта. И содержанием ее жизни-поэзии было, не устану повторять, восстановление исторического существования культурного человека. Русского человека как сообщника и соучастника всемирной культуры, христианизированной истории.
Словом, я очень счастлив, что был свидетелем вот этой самой эпохи, в которой на самом деле главенствовала Ахматова".
Этих счастливых свидетелей - нас - остается все меньше, но думаю, что это главенство Ахматовой еще впереди, что мы всё еще не до конца, не до самых глубин ее поняли и восприняли. Изданная Музеем Ахматовой книга воспоминаний помогает понять и воспринять ее облик, и человеческий, и поэтический, облик ее «поэзии-жизни».
«Русская мысль», №4406, 25 апр. 2002
* Я навсегда запомнила, как я опростоволосилась в одном разговоре с ней. В своей маленькой комнате на Ордынке она прочла мне только что написанное «Услаждала бредами...» (потом вошло в цикл «Песенки» как «5. Последняя»). Прочла - и ждет, что я ей скажу. Я пробормотала что-то насчет того, как потрясли меня последние строки: «Но забыть мне не дано / Вкус вчерашних слез». Она была недовольна - ей нужны были не восторги, а профессиональный разговор поэта с поэтом! Этого я не умела: я и сидя продолжала стоять по стойке «смирно». - Доп. 2004.
Умерим восторги. Анна Ахматова. Собрание сочинений. В 6 т. [Т.] 1. Стихотворения. 1904-1941. [Сост., подгот. текста, комм., статьи Н.В.Королевой]. М., «Эллис Лак», 1998.
Не могу разделить безусловное восхищение нашего рецензента [Анны Саакянц, чья рецензия была напечатана в том же номере «РМ». - НГ] первым томом шеститомного Собрания сочинений Ахматовой. Соглашусь, что «один раз» можно издать стихотворения Ахматовой, расположив их хронологически, однако, даже упрежденная (прочитав рецензию и лишь потом открыв книгу), я испытала шок: первый том первого столь полного издания Анны Ахматовой открывается стихотворением 15-летней Ани Горенко, таким, какие тогда писали, вероятно, сотни одаренных живой и впечатлительной душой гимназисток.
Чтобы испытать шок, не надо быть ни ахматоведом, ни снобом. И пример с Пушкиным тоже не убеждает: редакторы упомянутых Анной Саакянц десятитомников учли в его случае авторскую волю (допустим, одну из «авторских воль» разного времени).
Так что, может быть, стоит договориться: один раз мы стерпим, что Собрание сочинений Анны Ахматовой построено с разрушением не только циклов, но и книг - по хронологическому принципу. Впрочем, впрямь ли? Так выстраиваются пока только стихотворения. Поэмы в эту хронологию не входят (у них, видимо, будет своя). Между тем, коли уж задача - показать «творческий рост» поэта, то как же отделять поэмы от стихотворений, тем более поэмы Анны Ахматовой, насквозь лирические. Скажем, пушкинские поэмы - совсем отдельный жанр, и печатать их в отдельном томе правомерно, но представлять ахматовскую лирику по 1940 год без «У самого моря», «Путем всея земли» и начатков «Поэмы без героя» - против хронологии грех.
Что же до «Реквиема», то его разбиение на первоначальные отдельные стихотворения можно снести лишь при условии, что в томе поэм его единство будет восстановлено, т.е. все эти стихи будут напечатаны еще раз, но уже как поэма.
Если бы еще перед стихотворением Ани Горенко шла хоть короткая вступительная заметка, извещающая читателя о принятых в этом издании принципах, - но нет, о них сообщается лишь во вступлении к комментариям...
К комментариям тоже хочется сделать несколько замечаний - далеко не исчерпывающих, лишь о том, что при первом чтении бросилось в глаза. Нет сомнения, что Н.Королева действительно проделала огромную работу, сводя печатные и архивные данные, широко пользуясь результатами того, что в рецензии названо «коллективным ахматоведением», старательно ссылаясь на свои источники. (Иногда, может быть, даже слишком старательно: стоило ли при разговоре об отношениях Ахматовой и Модильяни упоминать книгу Б.Носика «Анна и Амедео»? Если Зинаида Шаховская в одном интервью на вопрос о носиковской биографии Набокова, смеясь, отозвалась, что это просто «анекдот», о котором и говорить не стоит, то «ахматовская» книга плодовитого автора - уже «скверный анекдот». Зато упущена фундаментальная работа Августы Докукиной-Бобель, первой обнаружившей, что на неизвестных рисунках Модильяни изображена Ахматова.)
Но работа над следующими томами продолжается, и можно будет учесть замечания, которые, безусловно, поступят и от более компетентных, чем я, авторов. Вполне представляю себе где-нибудь в конце шестого тома раздел «Исправления и дополнения».
Укажу один «ляп» - тем более серьезный, что из него делаются далеко идущие выводы. Ссылаясь на надежные свидетельства П.Лукницкого, Н.Королева указывает, что знакомство Анны Ахматовой и Бориса Анрепа произошло в Вербную (собственно говоря, Лазареву) субботу Великого поста 1915 г. - 15 марта. А в примечании к стихотворению «Выбрала сама я долю», к стихам «Отпустила я на волю / В Благовещенье его», объясняется:
«...праздник Благовещенья Пресвятой Деве Марии (понедельник на пятой неделе Великого Поста, который в 1915 г. приходился на 10 марта)" (здесь и далее выделено мной. - НГ),
- откуда и делается вывод:
«Возможно, речь идет о Б.В.Анрепе и его отъезде на фронт, но дата Благовещенья не подтверждает это предположение".
Между тем (на страницах «РМ» мне даже совестно сообщать эту азбучную истину), Благовещенье - непереходящий праздник, всегда отмечаемый 25 марта по старому стилю. Так что Ахматова могла проводить Анрепа на фронт через десять дней после их знакомства (этому противоречит лишь сообщенное ею Лукницкому «через три дня» - возможно, метафорическое, т.е. «очень скоро, через несколько дней»).
Стремление превратить комментарии в «небольшие этюды» тоже не всегда себя оправдывает. Иногда автор, увлекшись «контекстом», забывает текст. Так, на мой взгляд, случилось со стихотворением «Смеркается, и в небе темно-синем...».
Н.Королева честно приводит комментарий М.Мейлаха из душанбинского издания «Стихотворений Анны Ахматовой» (1991):
«Храм Ерусалимский - церковь Входа Господня в Иерусалим, более известная под именем Знаменской, на площади Николаевского (Московского) вокзала",
- и отчасти соглашается:
«Вполне возможно, что Ахматова имеет в виду какую-то определенную церковь - многие детали стихотворения достаточно конкретны и рисуют вполне определенный пейзаж (...). Однако, возможно, образ имеет и отвлеченно-философское значение, восходящее к Библии".
Следует рассказ о храме Иерусалимском в Ветхом и Новом Завете, в стихах Гумилева, Блейка, Мандельштама, самой Ахматовой (под «храм» подверстываются и «ворота») - и вывод:
«В этом нравственно-философском библейском смысле понятие «храм Ерусалимский» предстает в завершающих ахматовское стихотворение строках 21-28: «И если трудный путь мне предстоит», то «легким грузом» на этом пути будет память о великолепии «храма Ерусалимского» прекрасных дней прошлого".
Но если не пересказывать стихотворение, а читать, то именно вслед за «определенным пейзажем» (город на закате) и «многими деталями» сказано:
И я подумала: не может быть,
Чтоб я когда-нибудь забыла это.
И если трудный путь мне предстоит,
Вот легкий груз, который мне под силу
С собою взять, чтоб в старости, в болезни,
Быть может, в нищете - припоминать
Закат неистовый, и полноту
Душевных сил, и прелесть милой жизни.
Право, Ахматова, религиозность и церковность которой Н.Королева справедливо отмечает, не нуждается в дополнительном «нравственно-философском библейском» осмыслении тех стихов, которые того не требуют. И храму иногда позволительно быть частью пейзажа.
Странное забвение текста - и в комментарии к стихотворению «Так отлетают темные души...». К стиху «Помнишь, мы были с тобою в Польше?» сообщено:
«Ахматова была в Польше (Вильно) с Н.С.Гумилевым в 1914 г., когда провожала его на фронт".
Это так, да только кто в 1914 (или, наоборот, в 1940, когда писалось стихотворение) воспринимал Вильно как «Польшу»?! (Даже для Мицкевича, между прочим, здесь была «отчизна-Литва».) Но, более того, сразу за этим следует: «Первое утро в Варшаве... Кто ты?» Конечно, мы знаем, что Ахматова вроде бы не была в Варшаве - ни с Гумилевым, ни с кем другим. Но что-то же означает эта Варшава? Увы, комментатор проходит мимо этого стиха.
Не будем продолжать - оставим критику ахматоведам, которые в большинстве своем отнюдь не снобы, а люди, не только горячо преданные творчеству Ахматовой, но и досконально его знающие. Отмечу в заключение лишь отсутствие алфавитного указателя стихотворений и именного указателя (при набитости комментариев именами - необходимого). Им полагалось бы быть в каждом томе.
Русская мысль» №4225, 4 июня 1998
Стокгольм лежит, как это легко обнаружить на карте, чуть южнее устья Невы и чуть западнее устья Вислы. Последнее замечание связано с пристрастиями не спецкора, но самого лауреата: его связи с Польшей и польской поэзией общеизвестны, а в эти дни ему к тому же привезли оттуда охапку прессы - официальной, включая знаменитый «Пшекруй», по которому все наше поколение училось читать по-польски* (что сейчас крайне смешит наших польских друзей), с целой полосой, посвященной Бродскому. С исторической родины прибыл наконец долго ожиданный «Новый мир» с публикацией шести стихотворений, вызвавшей гораздо более неистовые восторги у западной прессы, чем у автора.
В Стокгольме Иосиф действительно был окружен любовью, и, наверно, это помогло ему, с его больным сердцем, выдержать все утомительное великолепие «нобелевской недели».
В Нобелевской лекции, с которой наши читатели уже знакомы, Бродский словно сконцентрировал все, что имеет сказать, однако вновь и вновь: 8 декабря после лекции, 9-го после спектакля в Драматическом театре (инсценировки ленинградского процесса 1964 года), 11-го после чтения стихов в Доме культуры - ему приходилось отвечать, в основном, на те же вопросы, на которые он уже дал ответ в тексте лекции (то же происходило и во время многочисленных интервью). Он отвечал терпеливо, вновь и вновь повторяя свои сгущенные, но предельно ясные формулировки. Иногда все-таки вопросы были выводами из услышанного, а не просьбой заново разъяснить уже и так ясно сказанное. Но и выводы, как оказалось, могут быть полярно противоположными. Об этом свидетельствовали два вопроса, заданные после лекции: «Не кажется ли вам, что ваша критика Запада напоминает солженицынскую?» - и: «Почему это у вас получается, что все плохо только на Востоке?» На первый вопрос Иосиф ответил: «Да, пожалуй...», - на второй: «Думаю, что вы меня плохо прочитали» (лекцию он читал по-русски, шведский и английский переводы были розданы публике).
Кто слышал, как Бродский читает стихи, тот, взяв в руки текст, сможет приблизительно вообразить, как он читал лекцию. Это была та же его каденция, но без поддержки рифмы и метра полностью опирающаяся на смысловую и синтаксическую структуру текста. Напряженные повышения и падения (перед новым взлетом) голоса и тона с невероятной силой выявляли суть каждой фразы, оборота, слова. Слава Богу, это чтение было записано корреспондентами вещающих на СССР радиостанций и чуть ли не в тот же день пошло в эфир.
Все это «вокруг да около» не менее важно, чем сама нобелевская церемония, но все-таки главным днем было 10 декабря. 1700 человек заполнили Концертный зал; король, королева, восемь лауреатов, члены Шведской Академии, Шведской Академии наук, правления Нобелевского фонда сидели на сцене; на балконе над сценой играл Стокгольмский филармонический оркестр под управлением Николаса Клеобери; профессор Ларс Гилленстен, председатель правления Нобелевского фонда, произнес речь, посвященную трехсотлетию публикации ньютоновских «Оснований» - «книги, оказавшей решающее влияние на все области нашей западной культуры». Чередуемое с музыкой, началось вручение премий. Каждый лауреат стоя выслушивал обращенную к нему приветственную речь - Иосифа Бродского приветствовал проф. Стуре Аллен, постоянный секретарь Шведской Академии. И вот король вручил и нашему лауреату нобелевский диплом и медаль - на следующий день фотография этой сцены появилась на первых страницах важнейших стокгольмских газет, а «Свенска дагбладет» дала ее под заголовком «Король и диссидент».
После церемонии вручения в Городском зале состоялся банкет. 1200 человек - мужчины все во фраках; был, правда, один китаец - наверно, дипломат (другому бы не позволили) - в маоистской спецовочке. Советских ни дипломатов, ни журналистов не было, зато было немало эмигрантов.
Не будем описывать банкет, дабы не сбиться на арию «Каким вином нас угощали...», но было, честное слово, очень хорошо. Без дураков. Без чопорности и развязности. С веселым студенческим оркестриком, с серьезным студенческим хором, из рядов которого, впрочем, вырвался солировать пародийный «итальянский тенор». С балом после банкета (ах, как шведы отплясывали!) - и во время бала лучше всего удалось повидаться и поболтать с совсем усталым, но как-то светло расслабившимся, размягченным Иосифом.
А на следующий день еще было чтение стихов: шведские переводчики читали стихи по-шведски, Иосиф - по-русски. Магнитофоны теоретически были запрещены, но работали в большом количестве. Празднества продолжались.
12 декабря Иосиф Бродский отбыл в свой родной Нью-Йорк, но этого я уже не наблюдала, отбыв накануне в свой родной Париж.
«Русская мысль» №3704, 18 дек. 1987
* В интервью польскому журналисту Ежи Ильгу Бродский сказал, что, когда он был в ссылке, я подписала его на «Пшекруй», о чем я, естественно, уже успела позабыть. - Прим. 2004.
Иосиф приехал в Москву...
Нет, сначала приехал Илья Авербах (ныне - давно уже покойный) и привез стихи до того нам неизвестного поэта. Как раз тогда Алик Гинзбург готовил третий, ленинградский выпуск «Синтаксиса» - и стал первым издателем Иосифа Бродского. (Хотя и не его одного.) А я в этом участвовала как машинистка.
Иосиф приехал поздней осенью того же 60-го года, когда Алик уже сидел за «Синтаксис». Он позвонил мне, назвал себя - я сказала, что знаю, кто он, знаю его стихи. Мы разговаривали, гуляя по дождливым (так мне помнится - дождливым, а если забыла, то уже некому поправить) московским улицам, потому что у меня дома не было даже того пространства, какое было у него в Ленинграде, в ныне знаменитых «полутора комнатах». Разговаривали, разумеется, о стихах, о поэтах.
Разница в четыре года в том возрасте (20 и 24) весьма увесиста, к тому же я была в Москве уже «известная поэтесса», хоть и не успела напечататься в «Синтаксисе». Одним словом, приехал молодой поэт представиться мэтру. Тем не менее, на «вы» он ко мне обращаться, видимо, не хотел, а сразу на «ты» ленинградская воспитанность не позволяла. И разговаривал он на польский манер: «А каких поэтов Наташа любит?»
Мы договорились, что, как только я приеду на зимнюю сессию (я училась заочно на ленинградском филфаке), он меня познакомит со своими друзьями-поэтами.
Как оказалось, он был тогда среди них - или чувствовал себя - еще не вполне равным, мальчишкой. Или из гордости опасался, что ему могут указать такое место. Поэтому, хотя с Димой Бобышевым Иосиф познакомил меня сразу, к Рейнам повести не решился.
- Позвони им и скажи, что ты знакомая Сережи Чудакова.
Рекомендация довольно сомнительная (это оказалось неважно - меня там заочно знали). А о Чудакове Иосиф позднее написал «На смерть друга». Но тот выплыл из небытия - оказался жив.
И все-таки окончательно эта четверка поэтов - впрочем, кроме Димы, друга с первой минуты, - вполне признала меня только вслед за Ахматовой (Найман, конечно, и потом еще долго колебался). Но и правда, от множества написанного до 62-го года я мало что оставила в живых, зато к Ахматовой пришла со стихами что надо. У Лидии Корнеевны есть упоминание о том, как Бродский ночевал в Москве у Корниловых и проспорил всю ночь с Володей. А спорили они из-за меня - из-за моего «Бартока» («Концерт для оркестра»), который, впрочем, оба знали наизусть. Что не помешало Иосифу, когда в «Ардисе» он держал корректуру моей книги «Побережье» (честное слово, так и написано: «Корректор И.Бродский»), пропустить именно в этом стихотворении целую строку...
В 63-м году летняя сессия у меня была в мае, и я праздновала день рожденья в Ленинграде. Бродский пришел с подарком в виде экспромта: «Петропавловка и Невский без ума от Горбанев-ской». Уже в эмиграции, поздравляя его с очередным днем рожденья, я напомнила ему, что мы оба - Близнецы, только моя дата рождения - на два дня позже. Он задумчиво произнес, казалось бы, банальную фразу: «В мае родились - значит, нам маяться», - но прозвучало это совсем не банально.
В тех самых «полутора комнатах» он мне подробно - можно сказать, структурно - рассказывал еще лежавшего в черновиках «Исаака и Авраама». Например, про КУСТ - что будет значить каждая буква. Все точно как потом в поэме, но рассказывал. Это меня поражало: я не знала - и до сих пор плохо понимаю, - что стихи пишутся еще и так, что поэт заранее все знает и планирует. (Но можно вспомнить и пушкинские планы.)
Когда Иосиф уже был в ссылке, меня позвали читать стихи во ФБОН. И я там, помимо своих, прочла еще большой отрывок из «Исаака и Авраама». Я его «пропагандировала», и не только потому что он в ссылке.
Уже тогда для меня он стал «первым поэтом» среди нас, а после смерти Ахматовой - и просто первым. Сейчас у меня такое ощущение потерянности, как бывает, когда умер старший в роде.
И в тех же «полутора комнатах» - то есть, надо понять, не во всех полутора, а в своем отгороженном углу - плакался он мне (слово «плакался» - не преувеличение) в январе 64-го года, когда друг-поэт увел у него Марину Басманову. Я только что впервые попала в немецкие залы Эрмитажа (обычно закрытые, потому что не хватало смотрителей) и сказала, что кранаховская Венера напомнила мне Марину.
- Я всегда говорил ей, - воскликнул Иосиф, - «ты - радость Кранаха».
Много лет спустя - видно, чтобы до конца изжить былую, но не отпускавшую его любовь к М.Б., - он написал не столько даже горькие, сколько злые, последние посвященные ей стихи. Они были среди присланных в «Континент». Максимов смутился: «Можно ли так о женщине, которую все-таки любил?» Я тоже смутилась, позвонила.
- Так надо, - отрезал Иосиф. Стихи были напечатаны.
Друга он не простил никогда. (Да и тот его тоже.) Правда, в одну из наших встреч в Париже Иосиф вдруг принялся как-то славно, ласково вспоминать о нем, только неожиданно называя «Митя» (верно, так Марина его звала). Но на встречу «Континента» в Милане, когда узнал, что там будет Дима, отказался приехать.
- Нет. Не могу его видеть.
На Бродского уже завели дело. Грозил неминуемый арест. Все его уговаривали срочно уезжать из Ленинграда. Но он оставался - ждал возвращения Марины. Вернулась она к нему уже в ссылку.
О приговоре Иосифу вечером в день суда сообщил Витя Живов в антракте концерта ансамбля старинной музыки Андрея Волконского. Отсюда в «Три стихотворения Иосифу Бродскому» попал Телеман - он был в программе вечера.
Один раз он написал мне из ссылки - просил растворимого кофе. Правда, просьба о кофе была в конце письма, а письмо на четырех страницах. Пропало - думаю, захватили на последнем обыске, в папке без описи, куда валили что ни попадя, обещая, что во время следствия вызовут понятых и составят протокол. Но не вызвали и не составили.
После ссылки мы виделись издалека на похоронах Ахматовой да еще где-то раз, может быть два, мимолетно встретились. Я уже по уши ушла в самиздат и в то, что потом стали называть правозащитой, а по-нерусски - диссидентством, и старалась не втянутых в эти дела не подводить знакомством со мной. Да и Иосиф казался мне слишком знаменитым, вращающимся в светских кругах. Хотя бы по стихам Бродского тех лет видно, как я ошибалась.
А в эмиграции мы подружились снова, хотя чаще говорили по телефону, по континентским делам или просто так, чем виделись. Несмотря на все опечатки, я была необычайно тронута тем, что он был моим корректором. Честь великая, а хорошим корректором Иосиф Бродский быть не обязан.
Он уехал вскоре после того, как я вышла из тюрьмы. Когда в Москве появился «Вестник РСХД» с его новыми стихами, я переписала их все и отправила Гарику [Суперфину] в лагерь.
Однажды по телефону из Парижа в Нью-Йорк, заминаясь от неловкости, что собралась произносить явно надоевшие ему похвалы, я все же вымолвила: «Знаешь, Иосиф, я всегда любила твои стихи, но то, что ты писал до эмиграции, я любила не всё, а теперь просто все до одного». И вдруг он с детской радостью ответил:
- Нет, правда?
И я обрадовалась, что все-таки решилась это сказать. Оказывается, ему это было нужно!
Но и он меня раз похвалил. В вышепомянутую встречу в Париже я ему сказала: «А вот Дима написал, что Ахматова вам четверым советовала - потому что, мол, для «школы" нужна женщина - «взять Горбаневскую". А вы меня не взяли».
- И правильно сделали, - весело засмеялся Иосиф.
Но вечером он мне позвонил:
- Неправильно сделали!
Я отдала ему в тот день новые стихи, чтоб он отвез их в Нью-Йорк Саше Сумеркину. Иосиф прочел «Классическую балладу», потом прочитал ее вслух Веронике -- два раза! - и не откладывая позвонил. Впрочем, предложил одну поправку. У меня было: «Но уста им тут же связала / любовь, а не страх».
- Надо «любовь, не страх», - сказал Иосиф. Так и осталось.
В Нью-Йорке мы просидели с ним много часов над моим переводом «Поэтического трактата» Милоша. Это был уже последний черновик, после того как его читали многие, включая самого автора, и я переделывала перевод множество раз по чужим указаниям и своему вдохновению. Иосиф прошелся по всему тексту, и мы еще много чего исправили, а потом Чеслав сказал мне: «После Иосифа могу больше не смотреть».
И еще была - теперь можно сказать забавная, но в тот момент такой не казавшаяся - встреча в Нью-Йорке. В декабре 80-го, когда угроза советской интервенции в Польше казалась неизбежной. Мы сидели с Иосифом, Томасом Венцловой и еще одним литовцем и совершенно серьезно обсуждали план организации интербригад для защиты Польши. И, конечно, все четверо собирались высадиться, по возможности, с первым десантом.
А улица Бродского, тоже попавшая в мои стихи, хотя и не посвященные Иосифу, но с мыслью о нем, - в нынешнем Санкт-Петербурге Михайловская. Теперь - не переименовать ли обратно?
«Русская мысль» №4111, 1 февр. 1996
Три половинки карманной луковицы. Иосиф Бродский. Примечания папоротника. [Bromma, Sweden, 1990]. Joseph Brodsky. Dйmocratie! (Piиce en un acte). Trad. du russe par Vйronique Schiltz. [Die, France], «A Die», [1990]. Двуязычное издание.
Две новые книжки Иосифа Бродского вышли в начале прошлой осени в двух концах - на севере и юге - Европы. Не на крайнем севере и не на крайнем юге, а в двух городках, как раз в меру отстоящих от вечных льдов и вечной лазури. Да и Европы тоже нашей, здешней, Западной: и на востоке Европы издают Бродского, но там это поспешно необходимые избранные для тех, кто не мог получать, как мы тут, каждый новый сборник, каждую новую журнальную публикацию сразу по выходе в свет, а отдельные счастливчики - и раньше, Мне, как нетрудно понять, везло: я читала подборки стихов Бродского в тот момент, когда очередная машинопись приходила в редакцию «Континента». Здесь уместно напомнить, что и пьеса «Демократия!», и все стихотворения, вошедшие в сборник «Примечания папоротника», впервые были напечатаны в «Континенте», где появился также раешник, озаглавленный «Представление» и не удостоившийся издания отдельной книгой. Тем не менее я живо воображаю себе эту несуществующую книжку - с картинками в пол-листа (жаль, что нет уже на свете Конашевича), с одной-двумя строфами на разворот, разноцветную, мрачно-веселую и (что важно для меня в рамках этой рецензии) перекидывающуюся мостиком от «Примечаний папоротника» к «Демократии!».
Без «Представления», примерно одновременного и пьесе, и стихам из новой книги для свежего читателя между последними и первой разверзается если не бездна, то глубокий овраг. То, что придает оврагу единый профиль, - свойственная Бродскому в последние годы озабоченность делами мира сего в наступающем-наступившем «конце века». Наиболее прямо и полно она выразилась в статье, написанной поэтом для журнала «Курьер ЮНЕСКО», частично - в некоторых более ранних интервью. С наибольшей, позволю себе так сказать, геополитической конкретностью - в обоих драматических сочинениях. А глубже всего и интимнее - конечно, в стихах; на то они и лирика. Но и в их материи, в их поэтике обнаруживается нечто, что я назвала бы, не настаивая на точности термина, псевдо- или квазипублицистикой. Во всяком случае, замечу, что и без мостков раешника и жердей «чистой» публицистики разные склоны оврага оказываются не совсем чужими.
Пьесу «Демократия!» в ее «материальном» аспекте постигла забавная судьба. Написанная летом 89-го года, она вышла в свет после событий осени того же года, после всех шелковых и ежовых революций, - ироническое, полуфантастическое предсказание обернулось пародией на действительность. И сегодня, если ехать по карте, «от моря до моря», пародия продолжает приобретать то обидно извращенные, то умопомрачительно натуралистические очертания. Все же и в первом случае она остается пародией, а не выдумкой, фантазией, какую писал автор для своего (значит, и нашего) развлечения и - «тем, кого это касается», в предостережение.
Ныне оба компонента: развлекательная основа и назидательный уток (или, если желаете, наоборот) - целы, но, поскольку действительность причудливо меняется, пьеса не устает обнаруживать новые краски. Так, закулисная, пребывающая на другом конце телефонного провода фигура «ихнего» министра иностранных дел Чучмекишвили совсем недавно озарилась отблесками новоявленной славы почти одноименного «борца с диктатурой». Как и встарь, остается истиной: «мир - театр»...
«Мир - стихи», - такого не скажешь. Стихи - мир, да, но другой, свой собственный, хотя по камушку, по кирпичику и позаимствованный из этого. Стихи Иосифа Бродского - мир вообще особый и, при наличии ряда постоянств (констант), на месте не стоящий. «Примечания папоротника», несмотря на свой небольшой объем (23 стихотворения, хотя большей частью, как это свойственно Бродскому, длинных), - по моему впечатлению, некоторый рубеж в жизни этого мира, а возможно, и в жизни поэта.
Вошедшие в книгу стихи относятся, грубо говоря, ко времени между Нобелевской премией и 50-летием Бродского. Неважно, значили ли что-то (внутренне) эти даты для поэта или нет - в любом случае «рубежные» стихи пришлись на этот отрезок времени. Однако сам этот их характер привязан к другому факту хронологии - концу века. Тем они и «рубежны», что он - рубеж.
По силе презренья догадываешься:
новые времена.
(«Примечания папоротника»)
Новые времена! Печальные времена!
(«Fin de siиcle»)
...мир вокруг
меняется так стремительно, точно он стал колоться
дурью, приобретенной у смуглого инородца.
(«Кончится лето, Начнется сентябрь. Разрешат отстрел...»)
В новой жизни, в гостинице, ты, выходя из ванной,
кутаясь в простыню, выглядишь, как пастух
четвероногой мебели, железной и деревянной.
(«Новая жизнь»)
От пастуха и мебели недалеко и до кентавров - человекодивана, человекоавтомобиля. «Помесь прошлого с будущим, данная в камне, крупным планом» («Кентавры III»). Или не в камне: «...наезжая впотьмах друг на дружку, меся колесом фанеру» («Кентавры I»). Или без упоминания кентавра как такового:
Часто чудится Греция: некая роща, некая
охотница в тунике. Впрочем, чаще
нагая преследует четвероногое
красное дерево в спальной чаще.
(«В этой маленькой комнате все по-старому...»)
Что до женских фигур - нимф и т.п. - они
выглядят незаконченными, точно мысли;
каждая пытается сохранить
даже здесь, в наступившем будущем, статус гостьи.
(«Аллея со статуями из затвердевшей грязи...»)
И вплоть до:
Все переходят друг в друга с помощью слова «вдруг»...
(«Кентавры IV»)
А несколькими строчками выше:
...совершенно неважно, который век или который год.
Так важно или неважно? Строка с «совершенно неважно» самим отрицанием, опровержением включает тему века, года, хронологии с не меньшей силой, чем заглавие «Fin de siиcle». Строка:
Ибо время, столкнувшись с памятью, узнает о своем бесправии
(из стихотворения «Дорогая, я вышел сегодня из дому поздно вечером...») - предоставляет бесправному времени право быть предметом суждения и кирпичиком стиха. Двустишие (оттуда же):
...но забыть одну жизнь человеку нужна, как минимум,
еще одна жизнь. И я эту долю прожил,
- вдруг подводит нас вплотную к «новой жизни» как третьей по счету.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
когда ты невольно вздрагиваешь, чувствуя, как ты мал,
помни: пространство, которому, кажется, ничего
не нужно, на самом деле нуждается сильно во
взгляде со стороны, в критерии пустоты.
И сослужить эту службу способен только ты.
(«Назидание»)
Видно, и время нуждается «во / взгляде со стороны, в критерии пустоты», и в «Примечаниях папоротника» поэт служит ему службу, по-моему, вернее, чем пространству, и обостреннее, чем когда бы то ни было прежде.
Две половинки карманной луковицы после восьми
могут вызвать слезы.
(«В этой маленькой комнате все по-старому...»)
Настоящее и прошлое в стихах Бродского перестукивались всегда, и чаще всего именно через стенку пространства. В новой книге небывалое прежде место занимает будущее, и непривычно слышать, как Бродский говорит (стихотворение «Только пепел знает, что значит сгореть дотла...»):
Но я тоже скажу, близоруко взглянув вперед,
- не назад и не по сторонам. Сношения трех устойчивых ипостасей времени происходят теперь через рухнувшие стенки (а может, и раньше не существовавшие?). Идея «конца века», начав со вздохов о том, каковы «новые времена» (см. выше), замешивает кентавровую смесь из новых, старых и прочих.
Век на исходе. Бег
времени требует жертвы, развалины. Баальбек
его не устраивает; человек
тоже. Подай ему чувства, мысли, плюс
воспоминания. Таков аппетит и вкус
времени. Не тороплюсь,
но подаю. Я не трус; я готов быть предметом из
прошлого, если таков каприз
времени, сверху вниз
смотрящего - или через плечо -
на свою добычу, на то, что еще
шевелится и горячо
наощупь.
(«Fin de siиcle»)
По-моему, мир стихов Иосифа Бродского, двигаясь по своей основной (по крайней мере, основной на протяжении последних лет пятнадцати) координате «пространство-время», в книге «Примечания папоротника» достиг некой пороговой точки, перевала. Что за ним? Стоя на перевале («на пустом плоскогорье, под / бездонным куполом..»), поэт и сам, наверно, не знает, что - за. Время придет - и он, и мы узнаем. А пока:
В горах продвигайся медленно: нужно ползти - ползи.
Величественные издалека, бессмысленные вблизи,
горы есть форма поверхности, поставленной на попа,
и кажущаяся горизонтальной вьющаяся тропа
в сущности вертикальна. Лежа в горах - стоишь,
стоя.- лежишь, доказывая, что лишь
падая ты независим. Так побеждают страх,
головокруженье над пропастью либо восторг в горах.
(«Назидание»)
Поэтому лучше бесстрашие! (...)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Внемлите же этим словам, как пению червяка,
а не музыке сфер, рассчитанной на века;
глуше птичкиной песни, оно звончей, чем щучья
песня.
(«Примечания папоротника»)
И наконец:
В заметаемой снегом
пещере, своей не предчувствуя роли,
младенец дремал в золотом ореоле
волос, обретавших стремительно навык
свеченья - не только в державе чернявых,
сейчас, - но и вправду подобно звезде,
покуда земля существует: везде.
(«Бегство в Египет»)
И что же, какое время мы видим на этой луковице? Самое точное: между
жизнью сейчас и вечной / жизнью, в которой, как яйца в сетке,
мы все одинаковы и страшны наседке,
повторяющей средствами нашей эры
шестикрылую помесь веры и стратосферы»
(«Кентавры III»).
Русская мысль», №3863, 25 янв. 1991
Иосиф Бродский - размером подлинника. Иосиф Бродский. Размером подлинника. Сборник, посвященный 50-летию И.Бродского. Составитель Г.Ф.Комаров. Таллин, 1990.
Как, собственно, называется этот сборник? Лишь по косвенным данным удостоверяешься, что перед нами книга «Иосиф Бродский размером подлинника», а не: Иосиф Бродский (автор). Размером подлинника (заглавие). Вдобавок, если на титульном листе мы не имеем ничего другого, кроме четырех строчек-слов названия, то шмуцтитул, куда вынесены выходные данные, наискось пересечен - в порядке то ли эпиграфа, то ли еще одного, дополнительного названия - фотокопией строки: «На каждого мосье - свое досье» (из записной книжки поэта).
Эта строка позволяет как бы «прояснить» загадочное и притягательное название сборника, очень «бродское» и дословной расшифровке не поддающееся. Корпус сборника, распадающегося на две части: тексты поэта и статьи о нем, - и составляет «досье». Забота авторов и составителей - верность этого досье подлиннику, та, которую находишь не в сыскном досье (верность деталей), а в хорошем переводе (верность дыхания).
Стихов Бродского в сборнике нет (кроме, разумеется, приведенных в порядке цитат, вплоть до весьма обширных - как в статье Я.Гордина «Другой Бродский»). Как автор, Иосиф Бродский представлен в книге прозой (или, если угодно, эссеистикой). Три знаменитых текста: «Путешествие в Стамбул», «Посвящается позвоночнику» и «Об одном стихотворении» - предварены двумя небольшими, зато печатающимися впервые. Это «Неотправленное письмо» и «Азиатские максимы. (Из записной книжки 1970 г.)». «Неотправленное письмо», относящееся к 1962-1963 гг., ко времени дискуссии вокруг реформы орфографии (можно вспомнить написанное по этому же поводу, но отправленное и опубликованное письмо А.И.Солженицына), дает несколько поводов к удивлению. Прежде всего сам факт, что сознательный отщепенец Бродский намеревался, видимо, обратиться со своими соображениями в советскую печать. Гораздо меньше удивляет, что письмо осталось неотправленным, но намерение в данном случае достаточно весомо. Письмо производит впечатление исключительной стилистической сдержанности: 22-летнему автору слишком важно то, что он пишет, и он пытается выбирать слова так, чтобы не отпугнуть редактора, на стол к которому попадет письмо (правда, чем ближе к концу письма, тем резче и индивидуальней становится стиль). В то же время замечаешь, что уже тогда, притом в связи со специфической, относительно узкой темой, Бродский высказывает некоторые свои заветные мысли о языке:
«Сложность языка является не пороком, а - и это прежде всего - свидетельством духовного богатства создавшего его народа. (...)
...фонетика - это языковой эквивалент осязания, это чувственная, что ли, основа языка. (...)
....мы рискуем получить язык, обедненный фонетически и - семантически. При этом совершенно непонятно, во имя чего это делается. Вместо изучения и овладения этим кладом - пусть не скоропалительным, но сколь обогащающим! - нам предлагается линия наименьшего сопротивления, обрезание и усекновение, этакая эрзац-грамматика. (...)
Письмо должно быть числителем, а не знаменателем языка. Ко всему представляющемуся в языке нерациональным, следует подходить осторожно и едва ли не с благоговением, ибо это нерациональное уже само есть язык, и оно в каком-то смысле старше и органичней наших мнений. К языку нельзя принимать полицейские меры: отсечение и изоляцию. Мы должны думать о том, как освоить этот материал, а не о том, как его сократить. Мы должны искать методы, а не ножницы. Язык - это великая большая дорога, которой незачем сужаться в наши дни".
Я сказала бы, что все это звучит не менее остро сегодня, когда русскому языку угрожают иные, но аналогичные опасности.
Парадоксальным образом, сборник «Иосиф Бродский размером подлинника» вместе с текстом «Неотправленного письма» попал ко мне в руки примерно в те же дни, когда я узнала из газет, что «российский парламент» установил в РСФСР новый праздник - «День славянской культуры» - в день святых Кирилла и Мефодия, 24 мая, то есть... в день рожденья Бродского. Не думаю, что поэт, сподобившийся родиться на Кирилла и Мефодия, пришел бы в восторг от выражения «славянская культура». Славянских культур - не меньше, чем славянских народов, «...другой язык, будь он трижды славянский, это прежде всего другая психология», - писал Бродский в том же юношеском письме, защищая русский язык от реформаторов, которые выдвигали «совершенно поразительную научную аргументацию, взывающую к примеру других славянских языков». «Народные депутаты», безусловно, одушевлялись наилучшими чувствами, но употребление слова «культура» во множественном числе оказалось им не по силам.
Тексты Иосифа Бродского (хоть их и немного - вдобавок к названным, еще «континентское» интервью, взятое Виталием Амурским) занимают добрую половину книги. Вторую составляют статьи, очерки, мемуарные заметки.
Собственно, здесь только мы и можем определять, решена ли поставленная задача изобразить поэта «размером подлинника»: сам он, выступающий в первой части книги, по определению должен быть равен себе, хотя и тут, конечно, каждый вариант отбора создает не равенство, а только эквивалентность. Не исключено, скажем, что если бы к напечатанным оригинальным текстам был присоединен один переводной - и не «какой-нибудь один», а совершенно конкретный: «Полторы комнаты», - приближение к «подлиннику» стало бы предельным. Я говорю это, несмотря на то, что в этом очерке памяти родителей, умышленно написанном по-английски, почти нескрываемо звучит нежелание видеть его переведенным на русский язык...
Однако вернемся к критикам и мемуаристам. На мой взгляд, верность «подлиннику», в целом сохраняющаяся и в этой части сборника, состоит в его неакадемичности. Думаю, что за последние три года уже и внутри советских границ написано немалое число трудов об Иосифе Бродском, его поэтике, метафизике и проч. и что среди них, наряду с рутинной научной заумью, есть работы действительно умные и нужные, которые найдут свое место в соответствующих изданиях.
Академичность есть признак вовсе не уровня, а отношения - некоторой научной объективизации, при которой автор делает вид, что ему, в общем-то, как личности до исследуемого объекта (поэта), тоже как личности, дела нет, а что соединен он с ним как биолог с вирусом и/или астроном с туманностью. Критик или мемуарист не скрывает, что его тема - дело кровное, а его объект - предмет любви (в нашем случае; а бывает, что и ненависти). Результаты, как академические, так и «любительские», могут быть от гениальных до полной чуши.
Но общая неакадемичность второй части созвучна неакадемичности самих текстов Бродского в этом же сборнике. Единственный из них, который можно было бы назвать «литературоведческим», - разбор «Новогоднего» Марины Цветаевой. Но это типичный образец того, что можно назвать «литературоведением прочтения», построчного, пословного, нередко «по-звучного» истолкования текста разными органами мыслечувствования. И трудно себе представить такой глубины прочтение, такой остроты истолкование со стороны - ну, по меньшей мере, не поэта (точнее было бы сказать не Бродского).
Среди напечатаннылх в сборнике текстов о Бродском очень немногие претендуют на ранг литературоведения, но и в тех откровенная отправная точка - невероятно важное, может быть, центральное место, занимаемое Иосифом Бродским и его поэзией в жизни автора статьи. В этом смысле, пожалуй, особенно показательна статья Василия Тележинского («континентский» псевдоним Алексея Расторгуева, раскрытый им в этом сборнике) «Новая жизнь, или Возвращение к колыбельной». Это чуть ли не единственная в сборнике статья о Бродском, не являющаяся стопроцентно апологетической (неясно, впрочем, можно ли назвать апологетическими, скажем, буффонады Владимира Уфлянда в стихах и прозе, но критическими их тоже не назовешь).
В поэтике Бродского последних лет автор обнаруживает «черты, разрушительные для его слога»: статическую, «позднеантичную» цитатность по отношению к собственной «классике» Бродского. «Классика», по доводам В. Тележинского, -
«...это стихи первой половины 1970-х годов, и в ее центре находится «Колыбельная трескового мыса».
И теперь, когда все уже сказано, становится легче, и воздух счастливо редеет. «Колыбельная трескового мыса», «Конец прекрасной эпохи», «Флоренция», «Венецианские строфы»... где-то здесь лежит большинство тех образов, которым суждено потом разбегаться в будущее и даже, кажется, уходить отсюда в прошлое его слога. Именно они, от предметов до невидимых связей между словами, подлежат теперь «Новой жизни» и попадают в ее круг в странно, болезненно изменившемся по своей интонации, но дословном повторе. (...) Совершившееся тогда стало местом единственного возврата, местом, на которое вернуться тянет, видимо, больше, чем в место прежней жизни*. «Метафора», или перенесение становится перенесением обратно - и от новых стихов автора мы возвращаемся назад, к тому вечному их источнику, который для них необходим. Возвращаемся с радостью - и, слагая по дороге с себя риторические одежды условного «мы», я должен сознаться, что движение в эту сторону мне дается легче, чем движение по ходу времени. Я боюсь, что все сказанное выше есть форма самозащиты. Стихи того «классического» мифа поразили меня тогда настолько, насколько вообще взрыв некоей новой реальности в одной части вселенной может быть различим в другой..."
Именно то, что автор статьи слагает «риторические одежды условного «м» и безутешно выплакивается в защиту поэзии Бродского от сегодняшней поэтики Бродского, - это и есть та личная причастность, личная «уязвленность» Бродским, которая определяет экспрессию статьи, ибо ведь «лучших стихов на этом языке еще никто не пишет».
С этим последним, думаю, согласны все участники сборника, включая поэтов. В непреднамеренно возникшем цикле стихотворений Александра Кушнера обнаруживается один - не знаю, осознанный ли самим поэтом - перелом отношения к Бродскому. Стихотворение 1974 года «Смотри же нашими глазами...» Кушнер заканчивает так:
Подумай так, что ты разведка
Своих друзей в краю чужом,
За прутья вылезшая ветка
На общем дереве большом.
Это, собственно, очень близко к тому, что позднее, получив Нобелевскую премию, сам Бродский говорил о своем поколении, вдруг сильнее, чем прежде, едва ли даже не чрезмерно, ощутив свою принадлежность к нему. Но все-таки, по-моему, поколение поколением, а ветка эта вылезла за прутья слишком далеко.
А вот лучшее в цикле А.Кушнера (несравненно лучшее, чем более позднее и как будто дежурно-классическое «Мы свиделись. И мы, смутясь, поговорили...») стихотворение 1981 года, которое мне хочется привести целиком:
Свет мой зеркальце, может быть, скажет,
Что за далью, за кружевом пляжей,
За рогожей еловых лесов,
За холмами, шоссе, заводскими
Корпусами, волнами морскими,
Чередой временных поясов,
Вавилонскою сменой наречий
Есть поэт, взгромоздивший на плечи
Свод небесный иль большую часть
Небосвода, - и мне остается
Лишь придерживать край, ибо гнется,
Прогибается, может упасть.
А потом на Неву налетает
Ветерок, и лицо его тает,
Пропадает, - сквозняк виноват,
Нашей северной мглой отягченный, -
Только шпиль преломлен золоченый,
Только выгиб волны рыжеват.
В коротком тексте «Несколько слов», следующем за стихами, Кушнер сравнивает поэзию Бродского со снежной лавиной, обвалом в горах. В вышеприведенном стихотворении этот образ мне кажется не столь ограниченно-горным: он шире - стихия вообще. При таком отношении не может быть ни зависти, ни счетов, только благодарность (не Бродскому, а Богу, природе или как бы это ни назвать).
«Русская мысль», №3872, 29 марта 1991
* Странно, но в «Азиатских максимах» Иосиф Бродский из 70-го года как бы отвечает своему сегодняшнему критику прямо на страницах того же сборника: «Как будто в этом месте живет неизвестное, безымянное божество, как будто это место - его алтарь, где ты то ли принес, то ли принесешь еще ему жертву, то ли услышал уже, то ли услышишь его голос: не забывай».
Поэзия, поэтика, поэт. Иосиф Бродский: творчество, личность, судьба. Итоги трех конференций. СПб, журн. «Звезда», 1998. 320 с. 1000 экз.
Петербургский журнал «Звезда» выпустил сборник материалов трех международных научных конференций, проходивших в Ленинграде - Санкт-Петербурге в 1990, 1995 и 1997 гг. (журнал был организатором двух последних).
К сожалению, «по разным причинам», как говорится в редакционной вступительной заметке, не попали в сборник некоторые заслуживающие внимания выступления, например, «блестящий доклад профессора Джорджа Клайна на конференции 1990 года» о проблемах перевода стихов Бродского, доклад, который «базировался на сопоставлении и анализе подлинников и английских вариантов и явился обобщением богатого опыта докладчика». Названия других выступлений, об отсутствии которых можно посожалеть, узнаёшь, читая включенную в сборник программу трех конференций. Меня лично огорчило отсутствие доклада Валентины Полухиной «О словаре тропов Бродского»: видимо, редакция и/или автор решили, что хватит и двух ее докладов («Английский Бродский» и «Поэтический автопортрет Бродского»; она участвовала во всех трех конференциях), а прочитав эти два, скажу, что ни от одного из них на месте составителей тоже никак не отказалась бы. Однако и вошедшего в сборник материала вполне достаточно, чтобы увидеть, что исследователи творчества Бродского не переливают из пустого в порожнее и не застревают на чистых эмоциях, пусть даже положительных.
Действительно, отрицательных по отношению к поэту эмоций, ныне довольно распространенных в некоторых литературных кругах, в сборнике не встретишь. А между тем они существуют, плохо скрываемые или совсем не скрываемые, - в чем мне с удивлением пришлось убедиться полтора года назад, проглядывая некоторые статьи в петербургских газетах, вышедшие к первой годовщине со дня смерти Иосифа Бродского. Думаю, что в будущем этот феномен: отталкивания ли от того, чьим интонациям еще недавно так упоенно подражали, просто ли школьнической радостной вседозволенности, когда учитель вышел (навсегда) из класса, не знаю чего еще, чем еще объяснить «дикую радость» колебания пресловутого треножника, - что феномен этот тоже будет рассмотрен вдумчивыми исследователями, как рассмотрела, например, Валентина Полухина причины почти полного неприятия поэта в Англии.
Однако Бог с ними, не внесшими своего вклада в этот сборник ниспровергателями. Слишком много интересного и ценного сказано на трех конференциях, чтобы сейчас ломать голову над предметом, который я лишь предлагаю будущим исследователям.
Три слова, вынесенные мною в заголовок статьи, примерно указывают стержень каждой из трех частей сборника (материалы трех конференций в нем удачно перераспределены). Первая часть касается общих и частных проблем поэзии Бродского, вторая - поэтики как таковой, третья, включающая воспоминания, документы, посвященные Бродскому стихи, - самого поэта. Честно же говоря, все это: и сами стихи («стишки», как говаривал Иосиф), и поэтика, и биография, и даже посвященные ему чужие стихи (подбор которых в целом на редкость удачен) - все это и есть поэт, единый и неделимый. Кое-где прямо в текстах докладов (например, у Джейн Нокс - «Поэзия Иосифа Бродского: альтернативная форма существования, или Новое звено эволюции в русской культуре»), чаще в подспудной, но явственно проступающей для читателя ниточке, соединяющей разные тексты, ощутимо глубочайшее единство поэта и «текста», поэтики и стихотворца, интонации стиха и «интонации» жизненного поведения Иосифа Бродского, того самого, кто когда-то на суде, не располагавшем ни к задумчивости, ни к откровенности, осмелился сказать: «Я думаю... это от Бога». И не странными, не преувеличенными кажутся такие темы докладов, как «Древняя стихия песни. Мужество певца и пророка в пафосе И.А.Бродского» (Ева Бруднэ-Уигли) или «Спуститься ниже мира живых» (Кейс Верхейл, о последних эссе Бродского).
Уже помянутая нами Валентина Полухина, во всеоружии показа и даже подсчета «тропов, парафраз и сравнений» анализируя поэтический автопортрет Бродского и демонстрируя, насколько «вполне в духе философии и литературы ХХ века лирический субъект Бродского децентрализован, фрагментарен, противоречив», насколько он «приближается к типу имперсонального поэта, ибо происходит почти полное вытеснение лирического «я" из стихотворения», - замечает «в скобках», что «так безлично изображать себя может только большая личность». И на пути неумолимого анализа автор приходит к выводу о «лирическом субъекте» поэтического мира Бродского, «стопроцентном стоике», вовлеченном «во все спекулятивные медитации на темы жизни и смерти, времени и пространства, языка и веры. Даже не будучи явлено эксплицитно, - продолжает исследователь, - лирическое «я" входит во все составные созданного поэтом метафорического квадрата: Дух - человек - вещь - слово». По-простому переформулируем это так: поэт гонит из стихов свое лирическое «я» (или совсем уж примитивно - свое «я», себя самого) в дверь, а оно (он) возвращается в окно. Но без текста В.Полухиной мы бы не осознали, как он его гонит, и как оно возвращается, и как рождается этот «небывалый в русской поэзии автопортрет», воплощающий и «новое направление в работе мысли Бродского», и «новое для русской поэзии направление поэтики».
Бродский, и правда, крайне редко говорит «я» (разве что в довольно ранних стихах - см. доклад Виктора Куллэ «Поэтический дневник И.Бродского 1961 года»), но личность, поэт и его стихи - все трое если не равны, то тождественны. Как пишет в своих «Итальянских эклогах» памяти Иосифа Бродского его друг Дерек Уолкотт:
В косматых строфах и здесь ты был занят своим...
(пер. А.Сергеева)
Или еще один поэт, еще один друг Иосифа, Томас Венцлова в «Щите Ахиллеса», написанном «после отъезда И.Б. из Ленинграда»:
Ты, Фермопилы видевший и Трою, -
ты со щитом стоишь. Ты есть скала.
Ты есть скала. Ты со щитом в руке.
Металл и ветер. Грозное звучанье.
Хоть та скала от лжи и от молчанья
невдалеке
(пер. В.Гандельсмана)
Конечно, среди текстов петербургского сборника не все стоит на таком высоком уровне, как упомянутые здесь и многие не упомянутые (кстати, среди не упомянутых, но заслуживающих внимания текстов читатель «РМ» встретит немало знакомого: первые варианты докладов Александра Сумеркина об истории сборника «Пейзаж с наводнением», Эры Коробовой о рисунках Бродского, Георгия Левинтона о мотиве «смерти поэта» у Бродского, воспоминания Дианы Виньковецкой «Об одной беспредметной выставке» печатались у нас в газете). Что же до текстов, которые, на мой взгляд, не достигают общего уровня сборника, отмечу только один, поскольку смутивший меня доклад касается «моего подворья».
Елена Невзглядова («Петербургско-ленинградская и московская поэтические школы в русской поэзии 60-х - 70-х годов») странным образом сравнивает два списка поэтов:
«На волне так называемой «хрущевской оттепели» в литературу вошло новое молодое поколение. Москвичи - Белла Ахмадулина, Андрей Вознесенский, Владимир Высоцкий, Евгений Евтушенко, Новелла Матвеева, Юнна Мориц, Булат Окуджава, Роберт Рождественский, Олег Чухонцев, ленинградцы - Дмитрий Бобышев, Владимир Британишский, Иосиф Бродский, Галина Гампер, Глеб Горбовский, Александр Городницкий, Александр Кушнер, Анатолий Найман, Евгений Рейн, Нонна Слепакова, Виктор Соснора, Владимир Уфлянд... Список слишком велик, чтобы быть продолженным",
- изящно заканчивает докладчица, чтобы никто не посмел приставать к ее упущениям. Cтранным образом, почти весь ленинградский список - поэты «непечатные» или «полупечатные», в большинстве своем ни в какую «литературу» ни на какой волне не «входившие», а москвичи - почти сплошь союзписательский список. И на сравнении двух таких списков проводятся сравнения двух «поэтик». Между тем, ignorantia non est argumentum, и если уж автору по молодости лет не довелось читать ни сам-, ни тамиздата, то в российской печати за последние годы (например, в «Новом мире») публиковались материалы о группе московских поэтов, включавшей Станислава Красовицкого, Андрея Сергеева, Валентина Хромова, Леонида Черткова и др. (не говоря о многочисленных публикациях, посвященных «лианозовской группе» или о целом томе стихов и теоретических работ Всеволода Некрасова). Именно с группой вокруг Красовицкого всерьез контактировали молодые ленинградские поэты при своих поездках в Москву и приездах тех в Ленинград. И, пожалуй, наша исследовательница, санкт-петербургский «историк и теоретик литературы», в своем стремлении не удлинять список промахнулась даже на ленинградской стороне, оставив за бортом такого значительного и значимого для ровесников поэта, как Михаил Еремин. Одним словом, попытка сравнения «двух поэтик» проведена на материале, искажающем перспективу.
А сама мысль небезынтересна, хотя, мне кажется, такие «коллективные поэтики» существуют недолго, пока поэты не вырастают в личностей, а поэтики - в индивидуальные, личностные. И сопоставление (всерьез!) Иосифа Бродского с Андреем Вознесенским, которого Бродский считал симулянтом в поэзии, весьма малопродуктивно.
«Русская мысль» №4236, 10 сент. 1998
уж-ж-жасно интересно!». Как работает стихотворение Бродского. Из исследований славистов на Западе. Ред.-сост. Л.В.Лосев и В.П.Полухина. М., «Новое литературное обозрение», 2002. (Научное приложение. Вып.XXXVI). 303 с. 2000 экз.
Этими словами, по свидетельству Льва Лосева, откликнулся Бродский на статью Барри Шерра о своей строфике, помещенную в сборнике «Поэтика Бродского» («Эрмитаж», 1986). Хотелось бы теми же словами откликнуться и на новый («увы, окончательный», горестно отмечает Лосев) вариант той статьи, и практически на весь рецензируемый сборник.
Кому интересно? Во-первых, любому филологу, даже не занимающемуся специально Бродским, ибо большинство статей можно считать образцовыми в избранном их авторами роде или жанре. Во-вторых, любому почитателю Бродского, желающему не просто перелистывать любимого поэта, но еще и понимать, чем эти стихи заработали твою любовь. В-третьих... - учителям, школьникам, студентам, а так как на всех двухтысячного тиража заведомо не хватит, то, значит, хотя бы университетским, научным и публичным библиотекам (и опять не хватит).
А чем же так «уж-ж-жасно интересно»? Чем может быть уж так ужасно интересен стиховедческий, или интертекстуальный, или, наоборот, внутритекстовой, или еще какой анализ? Но тут нужно пройтись по статьям, вдоль и поперек книги, без этого никак не обойтись.
Начнем прямо со статьи Шерра, которая теперь называется «Строфика Бродского: новый взгляд» (новый, потому что теперь исследование проведено на всем ныне опубликованном материале поэзии Бродского, включая не только написанное после его книг 1983 г., на которых заканчивалось предыдущее исследование Шерра, но и то, что тогда оставалось неопубликованным из раннего Бродского). В заключительном абзаце статьи автор пишет:
«...наши данные убедительно свидетельствуют, что к строфике Бродский относился исключительно внимательно. (...) Резкие сдвиги от периода к периоду в строфических предпочтениях Бродского указывают на то, что в строфе он видел не только важный формальный элемент стиха, но и некие тематические импликации. Так поэзия Бродского противостояла наступательному преобладанию катрена в русской поэзии ХХ века. Говоря о наследии Бродского, может статься, что его немаловажным элементом является возросшее понимание русскими поэтами существенных семантических и структурных эффектов, создаваемых искусным использованием строфики".
Вывод, к которому приходит Барри Шерр, полностью подтверждается приложенными к статье таблицами («Каталог строфических форм Бродского», «Суммарные подсчеты», «Сонеты Бродского» и «Строфика Бродского - диахронический обзор»). Читать таблицы подряд, может, и не каждому по зубам, но каждый может в них заглянуть, желая что-то проверить. Я же хочу подчеркнуть, что в статье обнаруживается несомненная связь строфики и семантики. Те или иные строфы Бродского не просто «везут» или «содержат» содержание. Через строфику стихотворение «работает», как это хорошо сказано в названии сборника. Не через нее одну, конечно, в чем мы убеждаемся, обращаясь к другим статьям (хотя бы ко второй статье Барри Шерра. Она об «Эклогах» - 4-й и 5-й, зимней и летней, «более абстрактной и философичной» и «более конкретной и пасторальной»).
В статье Льва Лосева «На столетие Анны Ахматовой» (14 из 16 статей сборника посвящены конкретным стихотворениям, поэмам, циклам и озаглавлены их названиями) стихотворение Бродского исследуется по всем параметрам, от биографических (и Бродского, и Ахматовой) и до узко стиховедческих, фонетических, лексических. Но нигде это не самоцель, не регистрация самодовлеющих элементов. Среди прочего стиховедческого материала мы встречаем разбор метрической формы, так называемого элегического александрийского стиха, - как замечает Лосев, у Бродского шестистопный ямб вообще редок, а эта форма повторяется только в стихотворении «Письмо в оазис» (1991).
«Учитывая, что вообще стихи в строгих правилах силлабики редки в творчестве Бродского после 70-х годов, - пишет Лосев, - уникальность метрической основы стихотворения «На столетие Анны Ахматовой» очевидна и является существенным смыслообразующим компонентом".
Лосев устанавливает «специальное иконическое значение» этой метрической формы для построения образа Ахматовой:
«Клишированное мемуаристами определение облика Ахматовой как «царственного» для Бродского ассоциируется с такими героинями высоких трагедий, как Федра и Дидона, и он достигает эффектной экономии выразительных средств, материализуя царственность образа Ахматовой в трагедийном размере, вместо того чтобы разбавлять лапидарный текст стихотворения прямыми сравнениями".
Через несколько страниц, говоря о старых стихах Бродского, посвященных Ахматовой, из которых она взяла эпиграф к «Последней розе» (со строкой «С дымом улетать с костра Дидоны»), Лосев говорит о том, что в творчестве Бродского закрепляется ассоциативная связь между именем и образом Дидоны и Ахматовой. Заодно он почти на полях отмечает, что основную тенденцию развития поэтики Бродского «от ювенильного периода (...) к первой авторизованной книге стихов, «Остановка в пустыне" (...) можно охарактеризовать как формирование индивидуальной мифопоэтической системы».
Другая (и далеко не последняя) «внутренняя рифма» в этой статье профессора и поэта. Говоря об александрийском стихе, Лосев отметил еще два привлекших Бродского компонента в семантической ауре александрийского стиха: это «восприятие Ахматовой Мандельштамом как Федры из трагедии Расина («Вполоборота, о, печаль!..") и египетская архаика, запечатленная даже в самом названии этой стиховой формы». И вот, когда исследователь зашел к стихотворению с другой стороны, Мандельштам и «египетская архаика» вновь встретились в наблюдении:
«...элегический александрин стихотворения (...) это размер стихотворения Мандельштама «Египтянин» (II), где, между прочим, строка 13: «Тяжелым жерновом мучнистое зерно... » - ср. первую строку разбираемого стихотворения Бродского".
Эта первая строка -
Страницу и огонь, зерно и жернова...
Так из «формального» анализа одного стихотворения выплывает целый поэтический мир. Не иначе происходит и в большинстве статей сборника.
Вот Ядвига Шимак-Рейфер рассматривает фрагменты поэмы «Зофья», в которой она видит «новое звено личного, персонального мифа Бродского о себе как о поэте», поэму «о самопознании, о всех испытаниях на пути к духовной интеграции», при этом продолжая:
«Весь этот процесс показан в поэме благодаря разнообразному применению одного лишь мотива, каким оказывается многовариантный образ маятника".
Вот Джеральд Янечек анализирует даже не стихотворение, а чтение Бродским стихов «На смерть Т.С.Эллиота» 19 ноября 1975 г. в Луисвильском университете: мелодику, просодию, каденции, переходы из тональности в тональность - и, замечая, что «декламация Бродского теснее связана с просодической структурой текста, чем с нормальными речевыми интонациями», вдруг как будто неожиданно, а на самом деле совершенно закономерно произносит:
«В этом отражается постоянное утверждение Бродским особой природы поэтического языка. Подчеркивая рифму и размер, делая паузы даже на анжамбированных окончаниях строк и декламируя текст уникальным мелодическим распевом, Бродский декларирует превосходство поэзии над смертным существованием..."
Два прекрасных эссе Томаса Венцловы: старое (позже несколько переработанное) о посвященном ему «Литовском дивертисменте» и довольно недавнее - ««Кенигсбергский текст" русской литературы и кенигсбергские стихи Иосифа Бродского». Это последнее - с историей, с Кантом, Карамзиным и Болотовым, с непристойными стихами Н.А.Некрасова, с описанием города после 1945-го:
«...он оставался царством руин, равного которому не было в Европе".
Анализируя одно из трех кенигсбергских стихотворений Бродского, «Открытка из города К.», Венцлова пишет:
«Кенигсберг, превращенный в руины, лишился примет, стал анонимным, оказался сведенным к одной-единственной букве. Смысл стихотворения можно определить краткой формулой «Это - казненный город» (слова Ахматовой, сказанные, впрочем, не о Кенигсберге, а о другом европейском городе, в сталинские времена присоединенном к СССР, - о Выборге)".
И в то же время стихи, где руины дробятся в зерцале реки, Венцлова сопоставляет с «эпитафиями Риму» времен Ренессанса и барокко, но роль Рима играет Кенигсберг. Здесь, как и в другом стихотворении «кенигсбергского текста» - «Einem alten Architekten in Rom», Венцлова видит «ранние подступы к римской теме, столь важной для зрелого Бродского».
Михаил Лотман, анализируя «На смерть Жукова», сразу берет быка за рога, начиная статью с тематики:
«Одна из основных тем Бродского - пересечение границ: государственных и иных. В числе этих иных - граница смерти".
Напомнив, что стихотворения «На смерть...» «занимают особое и чрезвычайно важное место в наследии Бродского», он начинает перечислять, чем же это стихотворение «выделяется из общего ряда стихотворений «на смерть"», и оказывается, что текст
«...весь пронизан несоразмерностями и несуразностями, начиная с синтаксических и стилистических и кончая тем, что, несмотря на то что имен и фамилий значительно больше, чем это обычно у Бродского бывает, персонаж, чье отсутствующее присутствие играет, как представляется, чрезвычайно важную роль в семантической структуре текста, оказывается неназванным вовсе. Это Суворов".
Дотошно сопоставляя разную ритмическую структуру написанных одним и тем же метром стихотворения Бродского и оды Державина «Снигирь» (на смерть Суворова), М.Лотман напоминает слова Бродского из эссе «Поэт и проза»:
«В конечном счете, каждый литератор стремится к одному и тому же: настигнуть и удержать утраченное или текущее Время. У поэта для этого есть цезура, безударные стопы, дактилические окончания",
- и прибавляет:
«Для нас здесь не важно, насколько универсальным является заявленный принцип, не приходится, однако, сомневаться в адекватности его поэтической практике самого Бродского. Время является также одним из центральных персонажей разбираемого стихотворения, хотя, как и в случае с Суворовым, оно прямо ни разу не называется",
- после чего переходит к анализу строфики, а далее - грамматики, «распределения временных форм глагола» по строфам, где обнаруживает тот же персонаж: и здесь, как в словоразделах и клаузулах, проявляется присущее Бродскому «обостренное чувство Хроноса».
Статья Джеральда Смита «Колыбельная Трескового мыса» как будто остается в рамках чистого стиховедения: «текст КТМ», детально разобранный с точки зрения построения (соотношения частей) поэмы, строфики, ритмики, метрики, синтаксиса и т.д. и т.п., оказывается «серией индивидуальных случаев», одна из функций которых (может быть, самая важная, прибавляет автор), состоит в том, что
«Бродский регулярно попирает некоторые нормы стихосложения и синтаксиса, господствующие в современной русской поэзии, и тем самым объявляет произведение своим собственным. Но в то же время, удаляя свой текст от общепринятых норм с их хорошо установленными семантическими ассоциациями, он сохраняет достаточное количество стандартных формантов, чтобы произведение осталось в рамках магистральной русской традиции строгой формы".
Этот вывод и остается в пределах стиховедения, и выходит за них.
Статья Романа Тименчика «1867», подобно самому стихотворению, написанному на мелодию танго «Kiss of fire» (оно же «На Дерибасовской открылася пивная»), выводит целый «хоровод муз». «Хоровод муз» у Бродского -
«мексиканская история, французская живопись (...), аргентинская музыка (...), муза дальних странствий, муза одесского фольклора (...), еврейский акцент, голливудское кино, поэтическая нумерология и австрийская поэзия (...)".
А вот отдельные «музы» из «хоровода» вдохновивших Тименчика: «Стихоряд, в котором «мелькает" ритмическая «подкладка" музыкального мотива, наделяет слова двойным знаковым подданством, понуждая одну их ипостась - поэтическую - оглядываться на другую - музыкальную...»; «Герой следует привычкам автора (...) и танцует (подобно Остапу Бендеру) солипсически...»; Иннокентий Анненский с его «Кэк-уоком на цимбалах»; «первая встреча русской поэзии с танго» в 1913 году. И:
«Смерть распространяется по финалу стихового танго Бродского, подчеркивая нешуточность этого мексиканского экспромта на полупристойной подкладке. Этот почти капустниковый номер касается темы, поистине смертельно важной для русской поэзии. Это стихотворение о поэте, поддавшемся соблазну власти, этакому поцелую огня. Речь идет о совместимости «нюхающего розы» с «гражданской позой», о том совместительстве, о котором мечтал изобретатель музы дальних странствий Гумилев (...) и от которого перед смертью отказывался автор «бобэоби» Велимир Хлебников:
Мне гораздо приятнее
Смотреть на звезды,
Чем подписывать смертный приговор.
<…>
Вот почему я никогда,
Нет, никогда не буду Правителем!"
- на таком серьезе заканчивает Тименчик свой тоже «почти капустниковый номер».
Валентина Полухина, автор или редактор-составитель ряда книг о Бродском по-английски и по-русски, в особенности же специалист по его тропам, анализирует «стихотворение-памятник» «Я входил вместо дикого зверя в клетку...». Отметим, что здесь самая неожиданная сторона исследования - анализ не тропов (хотя тоже замечательный - например, метонимии «рта» и «зрачка»), а лексики. Дойдя до двух последних, знаменитых строк:
Но пока мне рот не забили глиной,
из него раздаваться будет лишь благодарность,
- она находит в них «этическое кредо Бродского» и подтверждает это судьбой слова «благодарность» и однокоренных в других стихах Бродского. А «Пока мне рот не забили глиной» приводит нас к перекличке Бродского с Гейне, Мандельштамом (а через мандельштамовское «Да, я лежу в земле, губами шевеля...» - с пушкинским «Памятником»), «Поэмой без героя», двумя цветаевскими стихотворениями. Впрочем, статья Полухиной так густо набита осмыслением каждой детали стихотворения и всей судьбы поэта, что цитировать становится задачей безнадежной - остается отослать читателя к напечатанному и, в конце концов, в какой-нибудь библиотеке доступному тексту.
Виллем Г. Вестстейн пишет о стихотворении «Мысль о тебе удаляется, как разжалованная прислуга...», в авторском английском переводе озаглавленном «In memoriam». Он читает стихотворение в контексте автобиографической прозы Бродского и ряда других его стихов in memoriam (в основном «на смерть»). Выявляя «много характерных слов и мотивов», Вестстейн видит его как
«...«стихотворение памяти» двоякого рода - и как сам по себе стихотворный «акт против смерти», и как стихотворение, возвращающее человека из мира мертвых".
За незнанием английского мне трудно вполне оценить статьи с анализом английских стихотворений Бродского. В статье Роберта Рида о «Belfast tune» («Белфастской мелодии») меня, пожалуй, покоробило сопоставление со стихотворением Евтушенко «Пушкин в Белфасте» (хотя про Евтушенко Рид вроде бы все понимает правильно).
Дэвид М. Бетеа пишет о «To my dаughter» («Моей дочери»). Автор книги «Иосиф Бродский и творчество в изгнании», он даже в анализе английского стихотворения выходит в открытое море русской поэзии. Определив метрику стихотворения как «свободный героический гекзаметр», Бетеа пишет:
«Для Бродского просодическое многообразие стихотворения является настоящим хранилищем памяти: черпая из него, он апеллирует к традиции в целом. (...) Для Бродского, вслед за Мандельштамом, «память» предшествующих форм (это должно быть сказано именно так, а не иначе), Муза и Мнемозина - синонимы или же ипостаси одного и того же".
У Кеннета Филдса («Памяти Клиффорда Брауна») приведен русский оригинал стихотворения, а анализируется авторский перевод. Но это короткое эссе я оставлю на закуску.
Оправдываясь во вступительной статье за то, что в сборник «Как работает стихотворение...» включены две статьи более общего плана, Лев Лосев вполне оправдался за Шерра («Работа Барри Шерра, полный обзор строфики Бродского, будет незаменимым подспорьем всем тем, кто вслед за нашими авторами займется изучением отдельных стихотворений»), но включение статьи Елены Петрушанской «Джаз и джазовая поэтика у Бродского» объяснил тем, что она «является естественным «продолжением-комментарием" к эссе Кеннета Филдса». Мне кажется, включение этой статьи в сборник «исследований славистов» было ошибкой составителей.
Автор статьи - музыкальный критик; истории, которые она рассказывает про увлечение джазом в нашей стране в 50-60-е годы, верны, хотя и не новы (да и передача «Голоса Америки» называлась не «Час джаза», а «Джазовый час»); в филологическом же отношении автор допускает серьезные промахи. Например, она сравнивает с джазовыми синкопами «постоянный обертон поэтики Бродского, анжамбеманы». Вероятно, сравнение могло бы что-то принести, если бы Петрушанская не считала, что анжамбеман
«...не только вуалирует четкие цезуры, образующиеся вместе с концом строки и подчас создающие условность, искусственность поэтического членения речи, но создает квазинарушения ритма".
Не знаю, правда, что такое цезуры на конце строки, но достаточно вспомнить вышеприведенную цитату из статьи Джеральда Янечека о чтении Бродского, чтобы понять, что анжамбеман ничего не «вуалирует», а совсем наоборот; что и тот, кто будет читать стихи глазами, обязан сделать паузу между строкой и строкой, чтобы не разрушить ни стих, ни ритм, ни смысл (ибо в стихах смысл определяется не только словарно).
Но, в общем, один прокол на такой замечательный сборник - это совсем немного.
Итак, Кеннет Филдс. Он-то филолог, хоть тоже не славист, а вдобавок и сам поэт. Филдс высказывает парадоксальное утверждение, что поэзия «лучше всего выдерживает перевод», ибо она - «самая перелетная из всех форм жизни». Полторы странички о русском Бродском, которого он читал только в переводах, как будто подтверждают это мнение: он не только просёк все, что есть в стихах Бродского, но и догадался о чем-то, чего в них никто раньше не заметил.
А перейдя к «Памяти Клиффорда Брауна», Филдс, сказав, что герой стихотворения «был и продолжает оставаться одним из самых выдающихся трубачей бибопа, музыкантом исключительной теплоты и виртуозности», далее пишет:
«...чего в этом стихотворении нет, так это тепла. Но я тут же сообразил, что в этом весь смысл стихотворения: мир холоден в отсутствии музыканта, это не июнь [месяц гибели музыканта в 1956 г. двадцати шести лет от роду. - НГ] - это февраль. (...) ...театральный прожектор в стихотворении Бродского светит на пустую сцену".
К словам «Это - не синий цвет» Филдс дает реальный комментарий от «блюзовой ноты» (blue note) до чикагского клуба «Синяя нота», по дороге в который погиб Клиффорд Браун, и одноименной фирмы, выпустившей его первые записи. Зато к сверкающей капле («капля, сверкая, плывет в зенит») он дает и реальный, джазовый комментарий («капля, повисшая на мундштуке трубы»), и основанное на других стихах Бродского прочтение капли как звезды. Напомнив приведенные Бродским слова Ахматовой «Марина часто начинает стихотворение с верхнего до», Филдс пишет:
«Здесь, наоборот, Бродский ведет нас от самого низа, до-диеза, к высочайшей, звездной ноте, Полярной звезде, путеводной звезде Мелвилла".
Едва ли не всем статьям этого сборника свойственно то, что Кеннет Филдс называет: «способность своим сочувствием вдохнуть жизнь в неподвижную глину книги». Но мне почему-то кажется, что статьей Филдса Бродский (в общем, не очень любивший читать о себе и не очень ценивший похвалы) был бы как-то особенно тронут.
«Русская мысль» №4427-4428, 17 и 24 сент.
|