Вероника Боде: Виктор, здравствуйте.
Виктор Шендерович: Добрый вечер. Мой гость сегодня переводчик Виктор Голышев. Здравствуйте, Виктор Петрович.
Виктор Голышев: Здравствуйте.
Виктор Шендерович: Но вот мы перед началом эфира с Вероникой пытались вырвать из Виктора Петровича какой-то полный титул, как его еще представлять, он сказал – просто переводчик. Что верно. Потому что, я думаю, те, кто читали по-русски – от Шервуда Андерсена до Фолкнера, огромный перечень английской и американской в основном литературы, прекрасно знают эту фамилию. Более того, они ее знают еще… У вас, как я понимаю, это наследственное.
Виктор Голышев: Наследственное.
Виктор Шендерович: Давайте с этого и начнем, потому что переводчик Елена Голышева – это и «Мартовские иды», и «Старик и море», и пьесы Миллера, если я не ошибаюсь.
Виктор Голышев: Да, совершенно верно.
Виктор Шендерович: Расскажите, может быть, начнем с этой наследственности, которая вас привела в эту профессию.
Виктор Голышев: Наследственность выскакивает как-то с боку, я не собирался быть переводчиком никогда в жизни. Поскольку рос в сталинское время, то все гуманитарные дела мне казались чудовищными.
Виктор Шендерович: Вам с самого начала они казались чудовищными?
Виктор Голышев: Я не знаю, с шестого класса, с седьмого класса, с пятого класса. Да, история, география и литература, мне казалось, что жуткое, и заниматься этим вообще нельзя нормальному человеку, потому что брехня сплошная.
Виктор Шендерович: Так. Это вы поэтому в физтех?
Виктор Голышев: Да, поэтому. Нет, отчасти там почему – прочел Перельмана «Занимательную физику», думал, что будет так же весело в конце, оказалось не так весело. Но тогда как-то, я помню, что поколение все, вроде люди, которые себя уважали, стремились в инженеры.
Виктор Шендерович: Вот поразительно то, что вы сказали, что с шестого класса. Там мама с папой как-то приложили руку к этому антисоветскому воспитанию?
Виктор Голышев: Нет, папа у меня был партийный и ответственный работник, никаких разговоров политических дома вообще никогда он не вел. Я один раз украл портрет Сталина со стенки, который у нас висел, отнес в школу, он мне слова не сказал. Это было в четвертом классе.
Виктор Шендерович: Это могло восприниматься как угодно.
Виктор Голышев: Совершенно непонятно было, я даже не доложил. Просто снял и унес в школу. Зачем – не знаю.
Виктор Шендерович: Чтобы дома не висело.
Виктор Голышев: Нет, наоборот – это такое раздвоенное сознание. Я огорчался, что он умер.
Виктор Шендерович: Да?
Виктор Голышев: Не так сильно, как мой товарищ, который плакал, но огорчался. Это такое раздвоенное сознание бывает. С одной стороны, ты видишь эту лажу кругом и слышишь ее, а с другой стороны, как-то его вот так хорошо подавали, что ты его жалел и вообще очень ценил. И было неизвестно, что будет, если он помрет.
Виктор Шендерович: То есть да, вечный русский разговор, что потом будет еще хуже. Не столько этот хорош, сколько потом еще хуже будет.
Виктор Голышев: Вообще может ничего не будет. Если он электротехникой руководил, как в учебниках было написано.
Виктор Шендерович: Как это?
Виктор Голышев: В каком-то учебнике электротехники вузовском было, что это благодаря ему что-то было…
Виктор Шендерович: Электроны движутся благодаря…
Виктор Голышев: Ну, типа того.
Виктор Шендерович: Понятно. Насчет того, что ничего не будет – это у Гашека сказано устами Швейка, что никогда не было, чтобы ничего не было, чтобы никак не было.
Виктор Голышев: Это только под старость узнаешь.
Виктор Шендерович: Да. Так вот мы остановились на физтехе, то есть вы не собирались?
Виктор Голышев: Нет, не собирался никак.
Виктор Шендерович: Но читали?
Виктор Голышев: Книжки читал, да, и нравились даже заграничные, английские или американские.
Виктор Шендерович: Радио вражеское?
Виктор Голышев: Я не считал его вражеским никогда. Да, из школы приходил и включал радио, поскольку я английский немножко знал.
Виктор Шендерович: А партийный папа?
Виктор Голышев: Папа не вмешивался никогда. Папа вообще был администратор, он вступил в 27 году в партию. Но он не был никаким ни парторгом, никакой идеологии в дом не вносил. Один раз он на меня рявкнул что-то. Я проснулся под речь Хрущева, который сказал, что у всех будет два костюма, три колбасы, четыре… Я говорю: «Что за дурак?». Он говорит: «Если ты так думаешь, выходи из комсомола». Вот это единственный наш политический разговор был. Я не вышел.
Виктор Шендерович: Вы конформист, Виктор Петрович?
Виктор Голышев: Да нет, не конформист. Вышел из комсомола – выйдешь из института. Так как-то все ясно было.
Виктор Шендерович: Это такая гадкая шутка была с моей стороны.
Виктор Голышев: Как сказать? Мы тогда все должны были куда-то выйти.
Виктор Шендерович: Давайте вернемся к переводу. Первые переводы были сделаны для себя или вы уже понимали, что это?
Виктор Голышев: Первый раз подрабатывал техническим переводом, пока студентом был, нечего делать было и почему-то деньги захотелось заработать. Как для себя? Для себя, потом приятель отнес рассказик в журнал куда-то.
Виктор Шендерович: Что за рассказик, чей?
Виктор Голышев: Первый рассказ я перевел с приятелем, даже можно сказать друг, поскольку мы с ним до сих пор еще не возненавидели друг друга. Мы Сэлинджера перевели «Банановую рыбу» вдвоем, очень весело перевели, за два дня, потом дней десять хохотали и редактировали друг друга. А ни для кого, просто он сказал: «Есть такой писатель Салингер, очень хороший». И я его прочел, действительно он мне тогда….
Виктор Шендерович: Где его можно было прочесть? Какой был год уже?
Виктор Голышев: Это был 60-й год.
Виктор Шендерович: Уже 60-й?
Виктор Голышев: Да. Прочесть потом через год можно было в газете «Неделя».
Виктор Шендерович: В вашем переводе? Это первая публикация?
Виктор Голышев: Да, он очень хороший был. Тогда считалось, что все переводы хорошие.
Виктор Шендерович: А с тех пор как вы оцениваете собственные переводы?
Виктор Голышев: А я не оцениваю их.
Виктор Шендерович: Нет, я не к тому, чтобы вы сказали, что он прекрасен или плох.
Виктор Голышев: А, тот?
Виктор Шендерович: Нет, вообще. Вот вы перевели этот текст, в какой степени он ваш?
Виктор Голышев: В разной степени. Пока переводишь, вроде так пыхтишь, да ничего. Если верстку читаешь, то отвратительно. Потом вроде уже я не читаю их. Но как сказать, доводишь до такой степени, чтобы было не стыдно, больше ничего.
Виктор Шендерович: Это же работа почти актерская.
Виктор Голышев: Я раньше так думал.
Виктор Шендерович: Нет? Это не так?
Виктор Голышев: Очень мало средств по сравнению с актером. Там все-таки рукой можно махнуть, а тут, когда ты машешь рукой, тебя считают за сумасшедшего, когда ты переводишь, а левой рукой что-то делаешь.
Виктор Шендерович: Ну, пластика словесная, вы же… Уоррен не должен быть похожим на Фолкнера, не может быть похожим на Фолкнера. В английском языке он и не похож.
Виктор Голышев: И по-русски, я думаю, не похож.
Виктор Шендерович: Вы, таким образом, когда по-другому, в другом ритме пытаетесь ставить слова, по-другому разговаривать, находите какие-то эквиваленты, вы представляете себе автора, представляете себя каким-то образом, как бы он хотел это видеть?
Виктор Голышев: Нет, это я не могу сказать, что я представляю. Это такое, как бы вам сказать, когда солдаты по мосту шли в ногу и мост обвалился – резонанс возник. Ты уже как бы сам отдельно не существуешь. Не то, что ты подчинен, но как бы он за тебя говорит по-русски. Я не пытаюсь представить, я не видел этих людей. Фолкнера я не видел, Уоррена я увидел уже потом, много старше когда он был. Но ты знаешь этих людей гораздо лучше, чем когда общаешься, потому что, не их – автора знаешь, так скажем. Хотя в случае Уоррена замечательное совпадение было, я его видел.
Вероника Боде: У нас есть звонок от Артема из Петербурга. Здравствуйте, Артем.
Слушатель: Здравствуйте.
Виктор Шендерович: Здравствуйте, Артем.
Слушатель: Если можно, три кратких вопроса.
Виктор Шендерович: Давайте.
Слушатель: Переводчику вопрос: на какие языки легко переводить поэзию Пушкина? И второй вопрос: кому-то нравится (это уже, конечно, Виктору Шендеровичу), кому-то нравится, например, президенту Путину однополярный мир внутри России, не нравится однополярный мир вокруг России. Почему такое возможно? И третий вопрос: в своей последней передаче Виталий Портников попросил поддержать его. Для этого ответьте, пожалуйста, на такой вопрос: вчера по телевидению прошла премьера «Пушкин. Последняя дуэль». Если бы Пушкин жил сейчас, такие нужные России люди сейчас все живут в России.
Виктор Шендерович: Артем, есть ли вопрос третий?
Слушатель: Третий вопрос я задаю: помогли бы Пушкину в его последней критической ситуации такие люди, как а) Виктор Шендерович, б) Елена Образцова, в) собирательный образ российского дворянина.
Виктор Шендерович: Артем, спасибо большое за вопросы. Фантастика. Четвертый год программы, никогда не знаешь, что из эфира выпадет тебе на голову. Во-первых, я должен сказать, что большинство радиослушателей понимают, что Виктор Петрович не переводит с русского языка, он переводит на русский язык. Раз уж был вопрос, я спрошу: известны ли вам кроме набоковского, какие-нибудь переводы Пушкина?
Виктор Голышев: Нет, неизвестны.
Виктор Шендерович: Вас вообще не интересует движение в противоположную сторону?
Виктор Голышев: Только проза иногда – да. Только проза и только на английский язык, иногда, по мере необходимости, когда мне преподавать надо было тамошним людям, мне приходилось читать переводы невольно.
Виктор Шендерович: Есть хорошие переводы?
Виктор Голышев: Есть колоссальный перевод «Мертвых душ» совершенно.
Виктор Шендерович: « Мертвых душ»?
Виктор Голышев: Кажется, это нельзя сделать. Не знаю, и правильный он, с одной стороны, там нет вранья, и эта вся игра потрясающая.
Виктор Шендерович: Кто сделал? Американский?
Виктор Голышев: Фамилия Герни, американская, по-моему, мужчина.
Виктор Шендерович: Замечательно.
Виктор Голышев: Кстати, Набоков его хвалил. А он зря никого не хвалил и даже не зря никого не хвалил.
Виктор Шендерович: Да, он вообще никого почти что не хвалил.
Виктор Голышев: А при этом Тургенева читаешь, очень скучно бывает при этом. Такая казенная проза, хотя он тоже вполне душевным письмом обладал.
Вероника Боде: Евгения из Кельна спрашивает: «Уважаемый Виктор Анатольевич, мы практикуем семейное чтение ваших книг вслух, так как наши взрослые дети разучились читать по-русски. Мы очень хотели бы почитать по-немецки. Вопрос к вам и к гостю: возможен ли высококачественный перевод, скажем, вашего «Изюма»? Спасибо, счастья вам».
Виктор Шендерович: Во-первых, я могу предлагать вам и вашим детям для изучения русского языка Пушкина, Лермонтова, Гоголя и того же Тургенева.
Вероника Боде: Они хотят вас читать, Виктор.
Виктор Шендерович: Оно как-то надежнее, ей-богу, честное слово. Что касается перевода на немецкий «Изюма» и на другие языки, я думаю, это книжка мемуаров, которая недавно у меня вышла, таких баек, я думаю, что имеет малый смысл, потому что все-таки книжка предназначена для людей, которые дышали одним воздухом. Это советские байки, это наша история, она малоинтересна за небольшим исключением сюжетным, есть сюжетные анекдоты, которые можно перевести на немецкий. Анекдот – он анекдот и есть, если он такой общий. Но приметы времени – это никому неинтересно и таких амбиций у меня даже нет. А вот вернемся, раз уж Артем вывел нас на политическую тему, про однополярный мир. Сейчас антиамериканизм, он равен патриотизму. Для того, чтобы быть российским патриотом, надо не любить Америку.
Виктор Голышев: К сожалению, похоже.
Виктор Шендерович: Похоже так? Несколько слов на этот счет, Виктор Петрович.
Виктор Голышев: Я думаю так: путаются две вещи – государство, империя и люди. Для меня Америка не состояла из президента Никсона или даже президента Картера, который был приличный, по-моему, человек, в отличие от многих других. Из того, что они из себя делали, когда осваивали дикую страну. Как сказать? Это страна, преданная свободе. Как в кипящей воде вырываются те молекулы, которые быстрее всего бегают, так со Старого Света вырвались такие люди, у которых, видимо, или особая страсть к свободе была, необязательно, что они больше всех страдали. И от этого в стране определенный климат возникает некоторой дикости, с одной стороны, потому что это своевольные люди. Но это народ, который создал замечательную культуру. Это все говорят, что у них нет истории. У них есть история короткая, но она яркая, у них есть культура.
Виктор Шендерович: И уж, по крайней мере, один Фолкнер…
Виктор Голышев: Между войнами у них была лучшая литература в мире.
Виктор Шендерович: Между первой и второй.
Виктор Голышев: Потом немножко похужее стала, как и везде, впрочем. И я считаю, что когда ты к стране относишься, то ты должен относиться не к правительству обязательно. Я думаю, что нас должны были бы все ненавидеть 20 лет назад. Этого на самом деле не было.
Виктор Шендерович: А какое было отношение 20 лет назад?
Виктор Голышев: Я не знаю, болели против нас, когда в хоккей играли.
Виктор Шендерович: Вовсю.
Виктор Голышев: Но я никогда не болел против нас в хоккей. Я помню, встретился с одним критиком, он уехал потом, и что-то был хоккей. «Ты за кого болеешь – за канадцев или за нас?». «Конечно за нас». «Тогда для тебя не все кончено еще».
Виктор Шендерович: То есть не предатель еще, раз на таком уровне.
Виктор Голышев: Он имел в виду, что для него уже кончено все, что я патриот – остался. Нельзя ставить знак равенства между патриотизмом и антиамериканизмом, просто надо разделять. Может быть, у них будет правительство, которое нам больше нам нравится. Сейчас это зависит от комплекса неполноценности. Просто мы раньше вровень были, хотя не совсем, наверное, ну а сейчас…
Виктор Шендерович: Мы были вровень как империя.
Виктор Голышев: Как империя.
Виктор Шендерович: А сейчас мы не вровень как империя, и комплексуем.
Виктор Голышев: Это нормальный комплекс неполноценности, мы ослабли. Нам, кстати, дома десять лет или 15 объясняли, что мы полное дерьмо, что мы не умеем работать, что мы ленивые и так далее. Вы помните, когда все это писали в газетах. Это неправда, но, видно, как-то отъелось.
Виктор Шендерович: Да, видно.
Вероника Боде: Нам дозвонился Георгий из Москвы. Здравствуйте.
Виктор Шендерович: Здравствуйте, Георгий.
Вероника Боде: Прошу вас ваш вопрос, Георгий. Не слышно Георгия. Елена Владимировна тогда из Москвы, здравствуйте.
Слушательница: Добрый вечер. У меня вопрос к переводчику.
Виктор Шендерович: Его зовут Виктор Петрович.
Слушательница: Виктор Петрович, существует такое мнение, что Владимир Набоков прекрасно писал, нисколько не хуже по-английски, чем по-русски. Вы ведь его переводили?
Виктор Голышев: Нет, не переводил.
Виктор Шендерович: Я вам сейчас скажу, наверное, с чем вы спутали. Виктор Петрович переводил эссе Иосифа Бродского «Меньше единицы». Опыт перевода русскоязычного писателя, писавшего по-английски, у вас есть.
Виктор Голышев: Это неправда. Я готовил к печати материн перевод, при жизни она не могла, естественно, Набокова печатать «Книжки о Гоголе», а сам перевел его одно эссе о Кафке.
Виктор Шендерович: То есть мама перевела эссе Набокова.
Виктор Голышев: В старое время еще, когда его никто не хотел печатать. А потом пришлось редактировать.
Виктор Шендерович: Раз мы выбрели на эту тему.
Виктор Голышев: Мне кажется, что он замечательно писал на обоих языках. Все говорят, что «Лолита» по-английски лучше написана, чем русская. Но это естественно, потому что русский – это перевод, а перевод всегда хуже. Он вполне замечательный. Для них он был большим, новым открытием. Он орнаментальность прозе американской, более лобовую или более кондовую придал, которой у них не было. Не зря они на нем помешались какое-то время. Но это уже более сложная история, что он другого читателя открыл. Он писал для другого читателя, который равен ему был примерно умственно.
Виктор Шендерович: Таких немного.
Виктор Голышев: Обычно что-то объясняют. Я не говорю, к Фолкнеру это не относилось, но обычно все-таки там имеют в виду другого читателя. Он имел в виду, мне кажется, что он писал для зеркала. И для американцев, по-моему, это большое событие было.
Виктор Шендерович: Эта позиция не кажется вам высокомерной?
Виктор Голышев: Его?
Виктор Шендерович: Нет вообще, позиция нежелания разъяснять. Я сказал, а дальше мучайтесь. Как Фолкнер говорил: что делать, если ты прочел «Шум ярости» третий раз и не понял.
Виктор Голышев: Я, кстати, начинал читать десять или одиннадцать раз, ничего не понимал. Первые страницы десять или одиннадцать раз. Он правильно сказал. Иначе если объяснять, ты уже не книжку читаешь. Набоков, нет, это не высокомерие – это одиночество. Человек, который лишился родины, прижился в другой стране. Я думаю, что это очень одинокий человек был.
Виктор Шендерович: О другом одиноком человеке – об Иосифе Бродском и о том, как вы переводили его эссе «Меньше единицы». Вы к тому времени были давно, видимо, знакомы лично?
Виктор Голышев: Да.
Виктор Шендерович: Расскажите немножко об этом у нас.
Виктор Голышев: К сожалению, это каждый раз приходится рассказывать. Мы познакомились в 64 году. Он уехал, потом прислал мне книжку эссе. Я говорю: «Хорошо бы это перевести». Он говорит: «Нет, не надо - это не для наших писано». Я говорю: «Тем более интересно, что для других пишут». И никто не хотел переводить, старые переводчики, опытные, взрослые, потому что это всегда под контролем живого еще человека, который тебя ловит очень страшно.
Виктор Шендерович: То есть при живом авторе плохо работать?
Виктор Голышев: Если он знает русский язык – да. Но я думаю, что при Набокове не очень хорошо было переводить Набокова, я думаю, даже при сыне его тяжело. Никто не хотел, молодые брались. Там какая-то дырка образовалась, пришлось мне перевести «Меньше единицы».
Виктор Шендерович: После смерти Бродского в «Новой газете», кажется, появилось стихотворение, собственно, письмо, написанное вам, адресованное вам, совершенно замечательное, немыслимо трогательное. Потому что поздний Бродский, он мучительный поэт, он не позволял себе, мое читательское ощущение, он не позволял себе разговаривать человеческим языком.
Виктор Голышев: Да, стоическая поза укреплялась.
Виктор Шендерович: Стоическая поза укреплялась. А это письмо было обыденное, обычное письмо – с той лишь разницей, что оно было написано четырехстопным ямбом совершенно пушкинским, по моему восприятию, легким. Человек так писал.
Виктор Голышев: Да, но он мог такое письмо на шести страницах написать и это ничего не стоило. Я хочу сказать, что я чужих писем сам никогда не читаю, даже писателей и тем более не печатаю. Н здесь он когда-то попросил, было несколько писем в стихах.
Виктор Шендерович: Они у вас хранятся?
Виктор Голышев: Да. Они напечатаны. Человек по фамилии Сумеркин, который жил и был близок с ним, он хотел составить сборник «Портфель» и попросил чего-нибудь Бродского. Бродский попросил меня, чтобы я разрешил эти письма напечатать, хотя мог бы и сам. Но у него, может, копии не было. А это последнее письмо не попало туда, поэтому, я считаю, что как бы разрешил.
В ероника Боде: Звонок Анны из Петербурга. Здравствуйте.
Виктор Шендерович: Анна, коротко вопрос, у нас минутка буквально.
Слушательница: Добрый вечер. Два вопроса, оба переводчику. Первый вопрос: не могли бы вы сказать, какие писатели недостаточно переведены на русский язык, американские и английские. И второй вопрос: каких бы новых писателей американских и английских вы бы хотели перевести или могли бы рекомендовать для перевода?
Виктор Голышев: Это очень сложный вопрос, если бы я знал, я сейчас бы бросился переводить. Я знаю, что, скажем, до 70-х годов есть очень много американских писателей второго разряда, хороших, но которых у нас мало переводили и необязательно авангард какой-нибудь. Пинчина, наверное, переводят или перевели почти всего. Таких более-менее реалистичных. К сожалению, не могу назвать. Про английскую вообще плохо знаю, чего там происходит и никогда до последних лет не занимался ими. В Америке много было писателей. Я считаю, что надо искать между войнами.
НОВОСТИ
Виктор Шендерович: Вы хотели продолжить ответ.
Виктор Голышев: Чтобы не получилось так, что я отделался, я просто не могу сходу вспомнить, но когда-то для издательства составлял целый список таких пропущенных имен или пропущенных произведений. И если вы можете со мной связаться, то я просто его вам прочту.
Виктор Шендерович: А! Замечательно.
Виктор Голышев: А вы можете связаться через Шендеровича.
Виктор Шендерович: Да, оставьте референту.
Виктор Голышев: Он длинный, почти на страницу.
Виктор Шендерович: Оставьте референту свои координаты, и будет вам от Голышева список.
Виктор Голышев: Я просто пришлю.
Виктор Шендерович: Раритет. Все, кто с вами, некоторые интервью я прочел, не могут не вспомнить итальянскую пословицу о том, что переводчик – это предатель, о том, что в сущности переводы, особенно поэзии, но и прозы тоже – это вещь… В значительной степени, когда я читаю «Всю королевскую рать», я не могу отделаться от ощущения, что это написали все равно вы. Потому что написано таким русским языком, извините, Ваше величество, как у Шварца, что в глаза, вы гений, Ваше величество. Действительно, написано замечательным русским языком. Не было ли у вас в связи с этим вот таких собственных литературных амбиций?
Виктор Голышев: Нет.
Виктор Шендерович: Григорий Чхартишвили тоже переводил, переводил, сидя в «Иностранке», я думаю, что вы знакомы прекрасно с Григорием.
Виктор Голышев: Очень хорошо знакомы.
Виктор Шендерович: Вот переводил, переводил, потом в один прекрасный день у него, видимо, в мозгу, я могу сконструировать, появилась мысль, что он может, собственно говоря, не хуже, чем то, что он переводит. Не Фолкнера, правда, переводил. Не было такого ощущения у вас, что вы можете?
Виктор Голышев: Нет, никогда не было. Вы меня с Чхартишвили не равняйте, потому что у него большая избыточная интеллектуальная сила есть. У меня она минимальная, я энергию экономил, у меня ни на что не хватает после этого сил. Мне даже какую-то страничку предисловия самому трудно написать, не то, что самому что-то прозаическое написать. Что касается «Королевской рати» или других вещей, я наоборот думаю, что я слишком послушный человек. Когда ты заводишься, оно само получается.
Виктор Шендерович: А что значит слишком послушный?
Виктор Голышев: Я их никогда не предавал, я считаю, что это последнее дело себя выставлять, когда ты переводишь. Пиши сам, если ты такой умный. Я не такой умный.
Виктор Шендерович: Замечательно. Есть вопрос?
Вероника Боде: Алексей из Москвы, здравствуйте, вы в эфире.
Виктор Шендерович: Алексей, говорите.
Слушатель: Несравненный Виктор Петрович, я звоню вам просто с тем, чтобы объясниться в любви и более ничего. И я, и четверо моих детков, а младшему из них 14 лет, уже многажды вас читали. Сказать, что я вас очень люблю – это ничего не сказать. Можно предложить вам литературную викторину? Я зачитаю вам одно предложение, а вы скажете, откуда это: «Я из лодки его углядел. Рассвет еще чуть пеплился».
Виктор Голышев: Не знаю.
Слушатель: Это Фолкнер, «Медведь» в вашем переводе.
Виктор Шендерович: А я угадал!
Виктор Голышев: А вот и нет, «Медведя» переводил Сорока.
Слушатель: Простите, бога ради.
Виктор Голышев: Это другой человек.
Виктор Шендерович: Но Фолкнера, Сороки или не Сороки, но Фолкнера я угадал. Замечательно! Спасибо, Алексей. Если бы вы видели, как замечательно улыбнулся Виктор Петрович. Вас мало хвалят, Виктор Петрович.
Виктор Голышев: Много.
Виктор Шендерович: Много хвалят?
Виктор Голышев: Здесь много – уже второй раз.
Вероника Боде: Александр из Санкт-Петербурга, здравствуйте.
Виктор Голышев: Я никогда на это не рассчитывал в жизни, надо сказать. Первый раз, когда переводил, я думал: я никогда не буду зависеть от того, будут меня ругать или хвалить. Так что очень много.
Вероника Боде: Еще один звонок. Александр из Санкт-Петербурга. Здравствуйте.
Виктор Шендерович: Александр, здравствуйте, вы в эфире.
Слушатель: Бродского поминали, у Бродского были великолепные переводы. Но единственное, что мне не понравилось в переводах – это как он «Битлз». Зачем он это переводил – непонятно. Но это совершенно мимо кассы, что называется. По-видимому, что это не его стихия и этот мир ему чужд. Это «Желтую подводную лодку» переводил и прочее. Знает ли господин Голышев такой казус интересный переводческий, когда Лермонтова, то, что из Гете «Горные долины», перевели много раз и потом появилась японская хокку, где уже ворон на ветке сидел одиноко и так дальше. То есть эта стихия перевода. Меня вот что волнует, точнее, что интересует: может ли высший пилотаж превосходить новое произведение на одном языке другое, авторское и, соответственно, обратно переводить на тот же язык? Были ли такие казусы в истории литературы? Может что-то знаете. И второй вопрос: поскольку все унифицируется, глобализируется, искусство перевода, понимаете, если раньше свои реалии, то реалии сейчас у всех одинаковые – это «фаст-фуд» и прочее.
Виктор Шендерович: Понятно, два интересных вопроса.
Вероника Боде: Не все реалии одинаковы, скажем прямо.
Виктор Шендерович: Глобализация и обратный перевод.
Виктор Голышев: Сперва про «Желтую подводную лодку», он, по-моему, это мальчиком делал, очень молодым человеком, просто нравилось. Хорошо перевел или нет? «Лили Марлен» замечательно перевел, хотя тоже немецкий текст не очень похоже. Донна он замечательно переводил, это можно сравнивать переводы, там энергетика есть. Больше похоже на Бродского, чем на Донна.
Виктор Шендерович: Потому что он Бродский, просто собственная энергия захлестывала, видимо. Переводчику, вы сказали, вредна лишняя энергия, лишние амбиции.
Виктор Голышев: Нет, амбиции – это относится к прозаическому переводу. Поэзия – другое дело. Чтобы стихи получились поэзией, там что-то нужно особое, и это очень редкий случай. То есть читаешь стихи для образовательной цели, для того, чтобы знать, кто он такой. Но в принципе это случай, когда получается поэзия. Про обратный перевод ничего не знаю. Один раз он чуть не случился, когда надо было переводить «Путешествие в Стамбул», а сюда плохо приходили произведения Бродского того же. И я даже кому-то заказал переводить «Путешествие в Стамбул» с английского языка, который есть перевод с русского. Слава богу, до дела не дошло. Вот это единственный казус, который я знаю. А второй вопрос я уже забыл.
Виктор Шендерович: Про глобализацию, что мол…
Виктор Голышев: Нет, насчет реалий, они никогда не будут общие, потому что за каждой страной тысячи лет истории и за Америкой тысяча лет истории, только в разных странах –– в польской стране, в английской стране, в ирландской стране. Эти «фаст-фуды», аэропланы – это все сегодняшнее. Тогда похожие реалии, скажем, импичмент мы уже знаем, что такое, а 25 лет назад не знали. Реалии не могут быть одинаковые, потому что даже устройство души разное у людей.
Виктор Шендерович: Вот по поводу этого, когда вы переводили огромный список – Стейнбек, Шервуд Андерсон, Сэлинджер, вы не могли знать реалий, вы не были в стране.
Виктор Голышев: Не был до 50 лет.
Виктор Шендерович: Стало быть, вы переводили, имея в виду какую-то Америку, которая была у вас в черепной коробке. Вы представляли, как выглядит эта дорога. Вы не могли видеть то, что видел Стейнбек, когда писал.
Виктор Голышев: Я понимаю, да, я не мог это видеть. И конечно, не знаю, как другие, картинку себе надо представлять, как люди голову поворачивают, когда разговаривают или каким тоном, надо себе представлять. Конечно, ты скорее русскую дорогу видишь. Но топографию если ты видишь, тогда тебе легко переводить. Со Стейнбеком это проблема, с Сэлинджером никакой проблемы нет – это довольно вакуумная литература, она чисто с этим делом связана.
Виктор Шендерович: Тут постучал себе по голове.
Виктор Голышев: А у Стейнбека, у Фолкнера там очень сильный пейзаж, пространство важную роль играет, а у Стейнбека, вообще он любит материальный мир до безумия, что ты этим просто заражаешься. Но когда надо про мост какой-то написать, то ты про мост долго читаешь и понимаешь, как он устроен, где подкос.
Виктор Шендерович: И вы техническую литературу, чтобы узнать?
Виктор Голышев: Да, когда про автомобиль речь, про автобусы – это было мучительно, потому что там другая коробка сзади, дифференциал другой, чем у обычных машин. Это довольно большая волынка. Но дело в том, что ты не почувствуешь никогда свободы в русском языке, если ты переводишь слова. Ты должен как бы…
Виктор Шендерович: Переводить смысл, конечно.
Виктор Голышев: То, что происходит должен переводить, а для этого ты как бы дома должен быть.
Виктор Шендерович: А сленги, разговаривают они на каком-то у Фолкнера, деревенщина, на каком-то языке. Вы можете все равно взять какой-то из наших сленгов?
Виктор Голышев: Нет, не могу. Зачем? Тогда что, в Воронеже дело происходит или в Ростове?
Виктор Шендерович: А как вы передадите?
Виктор Голышев: Не знаю, это не получается. Это вещь, которая неизбежно пропадает. Мне Стайрон сказал, у него есть такая книжка «Признание Ната Тернера», там негр рассказывает, естественно с налетом. Негритянский нельзя перевести никак, кроме у них есть стандартные слова. У них даже фонетика другая, у вполне образованных людей, просто горло устроено по-другому. Он мне сказал, что вот французы замечательно перевели, потому что у них есть какой-то остров, не знаю, в Гвиане или где, там тоже живут негры, и они воспользовались тамошним разговором. У нас негры нигде не живут, кроме как в Москве, я понимаю.
Виктор Шендерович: Тогда еще не жили.
Виктор Голышев: У них нет своего языка здесь – в этом смысле. Просто это вещи, которые заведомо теряются в переводе, так же как народная речь или сленг полубандитский.
Вероника Боде: Звонок Михаила из Москвы. Здравствуйте.
Слушатель: Господа, добрый вечер.
Виктор Шендерович: Добрый вечер.
Слушатель: Можно спросить про техническую литературу?
Виктор Шендерович: Попробуйте.
Слушатель: Я преподаю в вузе математику, прикладуха всякая. И именно касательно прикладной части как раз очень ценные есть вещи за рубежом, но они слабо, по-моему, переводятся. Тогда, во-первых, кто решает, когда, что и в каких количествах это переводить, какой, собственно говоря, у нас орган? И второй вопрос – это вообще какой-то парадокс. На Мясницкой есть маленький уголочек, там иностранная продается. Казалось бы, иностранная, раз над ней никто не трудился, никакой переводчик, должна быть дешевле. А вот так вам – в пять раз дороже. Объясните.
Виктор Шендерович: Про ценообразование, я не думаю, что Виктор Петрович в курсе.
Виктор Голышев: Почему, очень легко объяснить. Там книжки дороже, чем здесь, наша книжка стоит 250 рублей – 10 долларов, там такая же будет стоить 20.
Виктор Шендерович: 19,99 она будет стоить.
Виктор Голышев: Или 24,99. Просто там труд дороже, поэтому бумага дороже. Больше платят людям зарплаты.
Виктор Шендерович: А по поводу того, кто решает – это очень забавный вопрос.
Виктор Голышев: Кто решает – не знаю. Дело в том, что там пять месяцев или шесть работал в редакции физики в издательстве «Мир», тогда я знал, кто решал, и решало издательство, решал заведующий редакцией, какие книжки по физике он переведет. Я не знаю, происходит ли это сейчас.
Виктор Шендерович: Сейчас уже не о технической литературе речь. Для того, чтобы выбрать что-то для перевода, вы должны читать раз в 15-20 больше, вы должны все это знать. Или вы пользуетесь достоверными сведениями. Вам пять человек сказали, что хороший роман, вы прочтете, условно говоря.
Виктор Голышев: Нет, это не оттого, что человек сказал. Это раньше так было, я знаю, что это из воздуха попадает, не потому что мне кто-то похвалил что-то. Как-то из атмосферы, что эту книжку надо прочесть. Я не читаю в 15 раз больше, чем перевожу, боже упаси. Это и пока переводишь очень трудно читать, тот же самый язык, да и по-русски невозможно, потому что нет времени. Нет, это как-то из воздуха возникает, то ли ты на обложке увидел, то ли кто-то действительно сказал, но не 15 человек тебе сказали, что это хороший фильм, надо на него пойти. Во-первых, я точно на него не пойду, почти наверняка. Я помню, мне сказали: «Клементина» жуткий фильм, не надо на него ходить. А я песню знал «Клементина, моя дорогая Клементина». Я думаю: нет, это фильм не может быть плохой. Он оказался замечательный действительно. С книжками то же самое. Тебе хвалят, и ты не веришь. Надо еще на человека смотреть.
Виктор Шендерович: Который хвалит.
Виктор Голышев: Который хвалит, ты должен его знать. Насчет технического не знаю, я как-то…
Виктор Шендерович: Не по этой части.
Виктор Голышев: Я даже не знаю, кто теперь заказывает художественную литературу. Деньги, по-моему, заказывают.
Вероника Боде: Иван из Москвы нам дозвонился. Здравствуйте.
Слушатель: Добрый вечер. Что касается заказа, я тоже не в курсе. Мне кажется, что переводить техническую литературу – это совершенно не проблема. Наоборот, в отношении художественной литературы, мне кажется, что у каждого народа существует как бы некий свой менталитет и свой взгляд на мир. И одна и та же дорога видится в глазах какого-нибудь американца, австралийца, россиянина по-разному. И соответственно, нельзя, по-моему, я в этом уверен, адекватно переводить какое-то художественное произведение.
Виктор Шендерович: Мнение любопытное. Значит ли это, Ивана нет уже с нами в эфире, значит ли это, что не надо вообще переводить? Конечно, «Вся королевская рать», написанная Уорреном, и «Вся королевская рать», написанная Голышевым – это два разных текста. Значит ли это, что Голышеву не надо переводить «Всю королевскую рать»? Не думаю.
Виктор Голышев: Я получил за это деньги, как это не надо? На самом деле все это действительно перевести ничего нельзя, мы это слышим постоянно.
Виктор Шендерович: Но надо.
Виктор Голышев: Но как-то переводят и читают. А Шекспира играют, например, хотя там точно переводы хуже, чем то, что он сам написал.
Виктор Шендерович: Я думаю, что англичане сегодняшние нуждаются в переводе Шекспира. Все-таки тот язык, на котором написано…
Виктор Голышев: Думаю, что нет. Очень много, там такая же петрушка как с Грибоедовым, там очень много того, что он придумал, вошло в язык просто. Мы «с корабля на бал» знаем откуда, а там так же, гораздо больше только из Шекспира. Нет, конечно, нельзя перевести. Но Джека Лондона читали, Марка Твена читали, Хемингуэя читали. Борода эта везде висела в 60-х годах. Просто жизнь опровергает это свойство. А потом не мешает иногда дорогу чужими глазами увидеть, только умнее будешь.
Вероника Боде: Григорий из Москвы у нас на линии. Здравствуйте, вы в эфире.
Слушатель: Добрый день.
Виктор Шендерович: Здравствуйте, Григорий.
Слушатель: Ваша интересная передача. У меня есть замечание и маленький один вопрос. Замечание в том, что обратный перевод случился с «12 стульями» Ильфа и Петрова. Это произведение было напечатано во Франции и в Советском Союзе какие-то деятели перевели с французского на русский,..
Виктор Шендерович: Замечательно!
Слушатель: …не зная до конца, что авторы живут в СССР. И где-то пытались напечатать. Но при печатании схватились, что, к сожалению, печаталось у нас в газетах, а отдельное издание вышло позже.
Виктор Шендерович: Понятно. Вопрос у вас был еще.
Слушатель: Маленький вопрос, я не сначала включился: скажите, ваш гость живет в России?
Виктор Шендерович: Представляете, он живет в Москве, в России. И он на один год выезжал, кажись, я узнал из биографии, преподавал в американском университете.
Виктор Голышев: На четыре месяца.
Виктор Шендерович: Но вернулся и живет в России. А кстати, из этого просто следующий вопрос: думаю, что невозможно переводить на русский язык и не жить в России, теряется язык. Вы следите за изменениями сегодняшнего языка? Ведь вы говорили про Набокова, но вы переводите, в 60 годах и сегодня вы переводите для разного читателя. Просто вы следите за новым сленгом, за появлением в русском языке огромного пласта молодежного, скажем? Или вам уже просто не нужно?
Виктор Голышев: Нет, конечно, это нужно, поскольку пока еще живешь здесь, не здесь, а на земле, это всегда нужно. Дело в том, что книжки, которые я перевожу, там это не нужно, мне кажется, это фальшь. Потом я очень туго это воспринимаю, жаргон вводить в перевод литературы очень тяжело. На самом деле это приходящая вещь. Это вроде мелких медных денег. Сегодня он есть, завтра нет. Литература не так пишется. Чтобы сейчас понравиться, наверное, надо на фене этой переводить. Я считаю, что поскольку распад языка происходит, благодаря средствам массовой информации в первую очередь…
Виктор Шендерович: Тут Голышев показал на меня просто персонально.
Виктор Голышев: Нет, не на вас, на стол показал. А действительно это безобразие, когда маленький пятилетний ребенок говорит «козел», а он это в мультиках видел, не от старшего брата принес.
Виктор Шендерович: Причем он имел в виду не животное, а человека, что досадно.
Виктор Голышев: Он не знает, что он имел в виду, он думал, что он имел в виду животное, но не имел в виду этого блатного слова. Я считаю, что просто литература, которая намерена сколько-то прожить, она не может этим сильно... А потом я консервативен очень.
Виктор Шендерович: В порядке, в диалоге опыт Райт-Ковалевой с Сэлинджером, где заговорил на каком-то русском странном языке.
Виктор Голышев: Русском или этрусском? Русском?
Виктор Шендерович: Да.
Виктор Голышев: Странный. Я тогда молодой был и возмущался, что это на наш жаргон не похоже. Она что-то придумала свое, и это правильный способ. А то, что гуляет кругом – это гадость будет одна.
Вероника Боде: Нам дозвонился Юрий Алексеевич Рыжов. Юрий Алексеевич, здравствуйте, рады вас слышать.
Юрий Рыжов: Здравствуйте.
Виктор Шендерович: Здравствуйте.
Юрий Рыжов: Виктор Анатольевич, здравствуйте.
Виктор Шендерович: Здравствуйте.
Юрий Рыжов: Я хотел краткую реплику, здесь зашла речь о техническом или научном переводе. Когда-то до 30 лет, работая инженером, я подрабатывал именно этим. Могу сказать, что правильно было сказано, что технический перевод гораздо легче, если ты работаешь в сфере, в которой ты профессионал, в смысле науки, тогда тебе нужно пятьсот слов и немножко знание грамматики английского языка. А вот я преклоняюсь перед людьми, которые переводят художественную литературу, а тем более поэзию. Это фантастика, мне совершенно непонятно, как это можно сделать.
Виктор Шендерович: Ой, спасибо за ваш звонок. Вот какие люди иногда к нам прозваниваются.
Виктор Голышев: Я очень тронут тем, что пятьсот слов надо знать. Но я думаю, что он тоже преуменьшает потребности. Дело в том, что я работал редактором. Пятьсот слов человек знает и грамматику знает, а править приходилось очень много, потому что нагромождение отглагольных существительных, а мозг теряется уже на четвертом: усиление, улучшение дальнейшего развития нашего продовольствия.
Виктор Шендерович: Это человек не знает родного языка уже.
Виктор Голышев: Нет, он знает родной язык, но чтобы это читалось, надо некоторое еще усилие. Вообще требовать усилия перелопачивать.
Виктор Шендерович: Сколько, понимаю, дурацкий вопрос, раз на раз не приходится, но тем не менее, примерно роман, по объему равный «Королевской рати» – это год работы, два?
Виктор Голышев: Тогда это было два с половиной, сейчас приходится быстрее делать как-то. Это уже я не берусь за 30 листов. Нет, был роман, который я три года переводил.
Виктор Шендерович: Что это за роман?
Виктор Голышев: Стайрона «И поджог этот дом». Но там 30 листов в аккурат и есть, вот и все. А сейчас как-то и книжек таких нет сильных, и времени нет, объем такой же, 60 листов – это просто ты умрешь раньше.
Виктор Шендерович: Давайте, Вероника хочет еще один вопрос, раз уж мы заговорили о сегодняшнем, я тут прочел, что вы одну из книжек Гарри Поттера переводили. Вам, такой вопрос странный, вам не скучновато после Фолкнера эту литературу переводить?
Виктор Голышев: Это было совсем не скучно, потому что мы переводили два месяца, со страшной скоростью. Это очень легко переводится и к душе это отношения не имеет. Это не технические, это финансовые упражнения.
Вероника Боде: Иван из Москвы нам пишет: «Большое спасибо за интересную передачу. Короткий вопрос: какой из всех народов, которых вы переводили, самый законопослушный? И не из-за того ли, что мы слишком законопослушны, все наши беды?».
Виктор Шендерович: Мы слишком законопослушны. Господи, у меня сегодня просто день откровений какой-то.
Виктор Голышев: Я как раз думал, что единственное, к чему мы еще не привыкли – это к закону. Мы ко всему привыкли – к власти, а насчет закона – нет.
Вероника Боде: Какой народ самый законопослушный?
Виктор Голышев: У нас гимн меняется три раза за 20 лет, слова, музыка, правда, а тоже музыка меняется и гимн. Я думаю, что законопослушный народ англичане из тех, кого я переводил, потому что никого больше не переводил кроме американцев. Американцы менее законопослушные и там больше дает возможностей для непослушания в виду более дикости страны. А наш народ совсем не законопослушный, наш народ еще этого не понимает просто. Я думаю, что это главная беда. Есть историческая сложность, то, что всегда выше закона что-то есть – или дружба, или власть, или народная воля, но всегда что-то есть выше закона. Пока этого не будет, я думаю, у нас порядка не будет никакого.
Виктор Шендерович: Но тогда этого не будет никогда.
Виктор Голышев: Я думаю, что просто мы торопимся и как бы за какие-то 70 лет хотим космических перемен. Люди долго живут, страны в смысле, если они не вымирают. Что-то, я думаю, постепенно должно утрястись.
Виктор Шендерович: Вы оптимист?
Виктор Голышев: Нет. Я думаю, нет, не оптимист никак. Я думаю, что что-то происходит и происходит довольно неизбежно, людей становится все больше, так или иначе они закону должны подчиниться. Опять, если вымрут.
Виктор Шендерович: Но это очень важная ремарка.
Виктор Голышев: Если они не вытопчут землю до этого.
Виктор Шендерович: Понимаете, какая штука, это же как у Дарвина – кто-то выживет, вопрос в том, кто и по какому поводу выживет. Важная ремарка – если не вымрем.
Виктор Голышев: Сильные без слабых сдохн т в один день. Вы представляете, богачи без бедных, их просто не будет. Поэтому выживут все, если выживут. Но в этом я не уверен как раз. Потому что ведет себя человечество по-свински.
Виктор Шендерович: Вы знаете, Эйнштейн, когда началась Первая мировая война, сказал, что Европа ампутировала себе головной мозг, сказал Эйнштейн в день начала Второй мировой войны. Я думаю, что это же мог сказать Джонатан Свифт на три века раньше. Я думаю, что ампутация не прекращается.
Виктор Голышев: Да, они уютно устроились, но мне кажется, что там каких-то частей сознания не хватает, я имею в виду Европу. Они до сих пор себя считают носителями цивилизации, хотя две мировые войны, побоища устроили они – европейцы. При этом они считают себя самыми умными. Сейчас какие-то уютные, какой-то Европейский союз, все собой довольны до безумия.
Виктор Шендерович: Вы американист, Виктор Петрович.
Виктор Голышев: Нет, просто чваниться не надо.
Виктор Шендерович: Чваниться, да, чваниться не надо никому. У нас осталось буквально полминуты до конца эфира. Вот какой-то короткий рецепт от классика, которому, кстати, скоро 70 лет, имеете право.
Виктор Голышев: Нет рецептов.
Виктор Шендерович: Совсем? Ничем не обнадежите?
Виктор Голышев: Как обнадежить? Что вы хорошо жить будете?
Виктор Шендерович: Да, вот лично я.
Виктор Голышев: Это я не знаю. Это надо к мессиям каким-то обращаться.
Виктор Шендерович: Виктор Голышев переводчик, но не мессия, на волнах Радио Свобода.
Вероника Боде: С пейджера: «Искусство перевода – это искусство. Недаром во французском языке есть два слова, обозначающих синхронного переводчика и переводчика беллетристики. Спасибо вашему гостю за его переводы. Он артист». Пишет Лариса из Подмосковья.
Виктор Шендерович: Присоединяемся.
Источник: http://www.svobodanews.ru/Transcript/2007/02/11/20070211220349827.html
Петр Вайль
Гений места
(Отрывок)
В знаменитом стихотворении Бродского есть строка: «Что сказать мне о жизни? Что оказалась длинной».
В этих словах — и ужас, и восторг, и гордость, и смирение. Мы, оглядываясь назад или вглядываясь вперед, видим вершины.
Взгляд поэта проходит по всему рельефу бытия, охватывая прошлые, настоящие, будущие равнины и низменности —
идти по которым трудно и скучно, но надо.
Учитывая место, о котором идет речь, можно назвать такой пафос — антилеонтьевским. Антибайроновским, в конечном счете.
От этого отношения и пострадал Стамбул. Бродский, обыгравший в английской версии своего эссе стихотворение Йейтса,
по-иному истолковал дух времени, о котором в йейтсовском «Плавании в Византию» сказано — «рукотворная вечность».
Город, так напоминающий об империи к северу — империи, по всем тогдашним признакам вечной, — размещен на пространстве,
которое вызывает физическое отвращение автора, он не жалеет эпитетов и деталей, описывая шум, грязь и особенно пыль.
Пространство, по Бродскому, вообще иерархически ниже времени, подчиненнее, несущественней: ставка на пространство —
характеристика кочевника, завоевателя, разрушителя; на время — цивилизатора, философа, поэта.
К тому же стамбульское пространство присыпано пылью. В «Путешествии» навязчива тема пыли — вещи, безусловно,
негативной, противной. Однако вспомним, что в стихах Бродского пыль именуется «загар эпох».
Время у него отождествляется чаще всего с тремя материальными субстанциями, способными покрывать пространство:
это пыль, снег и вода. Снег в Стамбуле редкость, но воды и пыли — сколько угодно. Времени на Босфоре - в избытке. То есть — истории.
КАППАДОКИЯ. НИГДЕ
Из Стамбула летишь в Анкару, где половину времени убиваешь на мавзолей Ататюрка, но не жалко, потому что после вспоминаешь. Помимо родных ощущений, поучительно и смешно: следуя заветам Ататюрковых секулярных преобразований, преемники так увлеклись истреблением исламских аллюзий, что мемориал получился фантазией на тему греческого храма.
Дальше путь лежит в глубь Анатолии, которая всего лишь — азиатская Турция. Но привыкнуть к этой книжной античности непросто. Звонишь в справочную, чтоб уточнить номер, барышня спрашивает: «Стамбул-Анатолия или Стамбул-Фракия?»
Долго едешь на юго-восток по Галатии и Каппадокии, по непроглядным степям, где монотонность ландшафта каждые тридцать километров прерывается руинами караван-сараев, мимо огромного соляного озера, на берегу которого стоит сувенирный сарай, торгующий комками соли на память, — к плато Юргуп, к долине Гереме.
Здесь, в Каппадокии — одно из диковиннейших мест на свете. Горы из мягкого вулканического туфа обдувались ветрами и веками, превращаясь в то, что кажется фокусами Антонио Гауди, — в фигуры причудливых плавных очертаний, которые, за неимением леса, служили укрытием и жильем. Дерево шло только на двери. В этих скалах вырубали квартиры и целые многоквартирные дома со времен хеттов. Но особенно здешнее жилищное строительство процвело с приходом ранних христиан, и Каппадокия связана с именами отцов церкви — Василия Великого, Григория Нисского, Григория Назианзина. Камень, как бы мягок он ни был, долговечнее других строительных материалов: скальные и подземные дома, склады, церкви, города на тысячи обитателей — уцелели.
Надивившись, пускаешься в обратный путь по Анатолии — через Киликию, Ликаонию, Фригию, Лидию — к морю. Фантастический пятачок жилых скал остается позади, слева отдаленным фоном — высокий Таврийский хребет, впереди и вокруг — ровно. Только уж совсем на западе, в близости моря, где среди хлопковых полей вьется чуждым здесь греческим орнаментом полувысохший Меандр, появляются оливы, дубы, жидковатые сосны, персиковые сады, холмы.
В каппадокийских степях вертикалей нет, но внезапно из ниоткуда возникают двухсот-, трехсоттысячные города — и уходят назад, как марево. Вдруг понимаешь, что страна сопоставима с гигантским соседом к северу, который теперь не такой уж гигант, а турецких 65 миллионов — это больше Британии, Италии, Франции. Некстати вспомнил, как в армии, в отдельном полку радиоразведки, подслушивал переговоры натовских баз, в том числе здесь, в Турции: в Измире, в Инджирлыке. Майор Кусков тычет в карту: «Гнезда, понимаете, свили под самым носом, названия, понимаете, даже противные — Инжырлик!»
Названия — небывалые. Оторопев, въезжаешь в город Нигде. Надо запомнить: когда пошлют туда, не знаю куда, принести то, не знаю что, — это здесь.
Ничего не понять: Нигде и стоит нигде. Безрадостный плоский пейзаж. Напоминая о том, что за ним море, с юга так все и нависает Тавр. Неказистые деревни, кладбища с обелисками, кощунственно напоминающими манекены в шляпных магазинах, придорожные мазанки с пышным именем «Бахчисарай» на кривой вывеске и неизменным кебабом из превосходной, как во всей стране, баранины. Редкие деревья вспыхивают, словно огоньки светофоров, которых нет в помине.
За что тут сражались великие державы, зачем сюда приходили? За чем? За дынями? За тыквами? Десятки километров полей с полосатыми эллипсоидами и желтыми шарами, которые столетиями покрывают эту землю. И глинобитные домики были точно такие, и, задумчиво расслабившись, не сразу замечаешь на крышах сателлитные тарелки и солнечные батареи (установка 150 долларов и полгода без забот). Ну да, сейчас приходят за дынями: Турция завалила Восток материей и кожей, а Запад — консервами и фруктами.
Раньше сюда не приходили — здесь оказывались. Сюда несла центробежная сила империй. В этих пустых местах был наместником Цицерон, здесь Кир бился с Артаксерксом, Сулла с Митридатом, арабы с византийцами, здесь проходили гоплиты и пелтасты Ксенофонта, который написал об этом походе «Анабазис» — великую книгу, простую и волнующую. Сюда поместил Бродский действие своего стихотворения о природе и истории, о природе истории — «Каппадокия».
Как и Нигде, из ничего выплывает Конья, древний Иконий, перекресток завоеваний, а теперь — большой новый город, бурлящий вокруг изумрудного купола мавзолея Мевланы, центра секты кружащихся дервишей. Увидеть их в действии нелегко, но может повезти.
Расчисленное рациональное радение, расписанное по секундам и па, — завораживает. Под резкие звуки саза дервиши разворачиваются как бутоны. Вращение начинается медленно, со скрещенными на груди руками, скорость нарастает, руки разводятся в стороны — правая ладонь раскрыта вверх, к Богу, левая повернута вниз, к людям, все через себя, для себя ничего — ноги переступают, как в балетном фуэте, фалды длинных разноцветных кафтанов взметаются лепестками, образуя подрагивающие круги, колпаки-пестики кажутся неподвижными, только мелькает в кружении отрешенное лицо с остановившимся взглядом. Волчки Аллаха. Живой ковер. Пестрые цветы экстаза.
Экстаза ждут, к нему готовятся, к нему готовы. Как к приливу вдохновения — поэт, которого так охотно сравнивали с дервишем, с юродивым, чей смысл — быть бездумным проводником (ладонь вверх, ладонь вниз) божественного глагола.
Нет ничего дальше от поэтической позиции Бродского. Поэт — хранитель. Остается только то, что заметил художник: «…Полотно — стезя попасть туда, куда нельзя попасть иначе» («Ritratto di donna» — «Портрет женщины»).
…Она сама состарится, сойдет с ума, умрет от печени, под колесом, от пули.
Но там, где не нужны тела, она останется какой была тогда в Стамбуле.
Фиксация в вечности дается поэтическим заклинанием. То же относится к историческим событиям и природным явлениям.
В стихотворении «Каппадокия» наблюдающий за битвой орел, «паря в настоящем, невольно парит в грядущем и, естественно, в прошлом, в истории…». Время сжимается, напоминая о байроновской метафоре: «История, со всеми ее огромными томами, состоит из одной лишь страницы…» У Бродского страницы истории исчезают вместе с человеком: «…Войска идут друг на друга, как за строкой строка захлопывающейся посредине книги…»
Только в присутствии человека обретает смысл природа: «Местность… из бурого захолустья преображается временно в гордый бесстрастный задник истории». Временно — потому что с исчезновением человека «местность, подобно тупящемуся острию, теряет свою отчетливость, резкость».
«Все мы, так или иначе, находимся в зависимости от истории», — пишет Бродский. Но и история — от нас.
История жива словом. Носители слова обеспечивают истории вечность. «Это уносят с собой павшие на тот свет черты завоеванной Каппадокии». Так унес с собой Иосиф Бродский — Каппадокию, женщину со стамбульского портрета, Стамбул: все то, чего коснулся взглядом и пером, о чем успел сказать.
Источник: http://www.erlib.com/Петр_Вайль/Гений_места/24/
Гений места
Петр Вайль
Босфорское время
Стамбул — Байрон, Стамбул — Бродский
Базар Евразии
Стамбул издали очень современен. Минареты на расстоянии кажутся телевышками — и эти острия протыкают время, сводя сегодняшний Стамбул с доисламским Константинополем и еще более древним Византием. Главный храм христианского мира — Айя-София — стал образцом не только для церквей, особенно православных (вспомним Софии — киевскую, новгородскую, вологодскую), но и для мечетей. Поставленные по четырем углам константинопольской церкви минареты превратили ее в мусульманский храм, и началось клонирование — мечеть Сулеймана, мечеть Султана Ахмета, мечеть Баязида... Некоторые красивее, почти все грациознее поруганной Софии, но у истоков — она, и все на нее похожи. Становится понятно, как внушителен был и безминаретный Стамбул. Нынешний пассажир эгейского круиза испытывает, входя в Босфор, те же ощущения, что крестоносец Жоффруа де Виллардуэн восемь веков назад: «Многие из смотревших на Константинополь даже помыслить не могли, что может быть в мире столь богатый город, и вот увидели они сии высокие стены и богатые башни, оградившие город, и высокие церкви, и было их всех столько, что невозможно поверить, когда бы не расстилались они перед глазами... Не нашлось столь бесстрашного человека, кто не затрепетал бы при сем зрелище...»
Впечатляет и сама идея: единственный город на двух континентах. Единственный великий город с тремя именами. Ну, разве Рыбинск-Щербаков-Андропов или Юзовка-Сталино-Донецк. На что у Стамбула найдется русский ответ: четвертое имя — Царьград.
Вид города с воды внушал и внушает трепет и почтение: мало на свете рукотворных ландшафтов величественнее. Другое дело, когда прибываешь по воздуху и из аэропорта на такси режешь углы от Мраморного моря к бухте Золотой Рог, сразу погружаясь в базар, который есть город. Байрон приплыл в Стамбул на фрегате, Бродский прилетел самолетом. Думаю, это важно.
Однако корабль тоже рано или поздно пристает к берегу, и базара не миновать. Пассажирские причалы — на европейской стороне. А главный парадокс Стамбула таков: Азия тут — это Европа, а вот Европа — самая что ни на есть Азия. Карту хочется перевернуть вверх ногами — впрочем, еще и потому, что Эгейское море по отношению к Черному в культурно-политическом смысле — север.
Пересекаешь узкую полоску Босфора — и оказываешься в чистом, респектабельном европейском городе, оставляя позади, в географической Европе, бессонный, шумный, грязный азиатский базар, кружащийся наподобие дервиша вокруг ядер конденсации — мечетей и дворцов. Кружение усиливается хаотичным мельканием машин: светофоры либо отсутствуют, либо не работают, либо игнорируются. Разносчик чая со своей хрупкой подвесной конструкцией из подноса и восьми стаканчиков в безумной отваге мчится на автомобильный поток, перекрывая криком клаксоны; машины с визгом тормозят, водители высовываются по пояс и машут одобрительно руками.
На азиатской же стороне, чуть дальше аккуратного ближнего Кадыкёя — фешенебельные районы Фенербахче, Бостанджи, Гёзтепе: тут-то и селится солидный средний класс. Здесь горят огни на перекрестках, здесь следят, чтобы не рушились дома и не замусоривались улицы, — на это есть время, поскольку нет одержимости идеей продажи и показа, никто не дергает пришельца за фалды, предлагая путеводитель, шашлык, бумажные салфетки, штаны, древний камень. Здесь живут для себя, и в том, что для себя живут лучше, чем для чужеземцев, — серьезное отличие Турции от северного соседа.
Скоропалительный турист сюда не добирается, ограничиваясь босфорской прогулкой на катере и пересечением моста, связавшего два континента, чтобы испытать действительно волнующее чувство. «До свиданья, дорогая, уезжаю в Азию и последний раз сегодня на тебя залазию» — в Стамбуле это не песня о разлуке, а гимн похотливости: до Азии двадцать минут по воде или пять по мосту.
В стамбульской Европе гуляет торговля. Известный всему миру Большой базар — как раз цивильное место, вполне пристойный торговый центр, просто громадный. Настоящий базар — за его пределами: повсеместный, беспрерывный. Вечером у Новой мечети прямо из высокой кучи на асфальте выбирают рубашки пастельных тонов — в полной темноте. По ресторанной улице на Галатасарайском рынке бродят среди столиков продавцы погремушек, статуэток дервишей, цветов, портретов Ататюрка, лотерейных билетов; всех замучил старик с потертой лисьей шкурой. Дама в балахоне с бледным накрашенным лицом разворачивает аккордеон: «Дунайские волны». Сейчас войдет Чарнота. В районе Лалели бродят недешевые «наташки». По набережным Золотого Рога — рыбная торговля под присмотром безбоязненных свиноподобных чаек: сардины, скумбрия, пеламида с рекламно вывороченными пурпурными жабрами. Жареную скумбрию продают прямо с качающихся лодок. Картина инфернальная: в лодке жаровня, пламя то и дело взметается, охватывая продавцов, они ругаются, хохочут и протягивают на берег вложенную в булку рыбу.
В мавзолее Сулеймана Великолепного настойчиво предлагают сделать взнос на поддержание гробницы султана и его русской жены Роксаны. Квитанцию за номером 0255207 серии D13 храню: как еще обернется жизнь.
Туризм — тоже торговля. Только сам товар — поскольку это недвижимость под охраной государства — продать нельзя, так что торгуют любознательностью. Твоей. Ты — одновременно покупатель и товар. Странное шизофреническое ощущение, когда тебе назойливо и агрессивно продают тебя — хочется сказать, лучшую часть тебя, одну из лучших по крайней мере.
На асфальте у воды — что-то накрытое брезентом с огромной надписью: «Тетрать — 1 kg — $2». Изводишься от любопытства, но тут приходят вялые брюнеты и стаскивают брезент: штабеля тетрадей для продажи на вес российским оптовикам. Местные торговцы сносно объясняются по-русски — благо масса общих слов. Балык — по-турецки «рыба»; обидно: выходит, любая тюлька — для нас деликатес. Зато мы отыгрались на сарае, который у них — дворец, и на алтыне, который — золото. Спорт — спор: как правильно. Ластик — шина. Я обедал на речке Чай, пил чай в местечке Чердак. Секулярная революция Ататюрка реабилитировала алкоголь: вина пока неважные, все пьют анисовую ракию и более привычное, с фонетически безупречным написанием — votka, kanyak. Стакан по-ихнему — бардак, тарелка — табак. Родная лингвистика: водки бардак да селедки табак.
Восток вообще роднее, чем запад. Европе в русском языке как раз не повезло. Прежде всего — с единственной известной к этому слову рифмой. И еще: в слове «Европа», особенно в его производных, так явственно слышен другой чуждый корень, и на слух патриота какой-нибудь «Евросоюз» только и может быть союзом масонов. Язык определяет идеологию: «евроремонт» — само существование этого слова есть сильнейший аргумент в пользу азиатскости России. Не говоря уже о том, что евроремонтом в Москве занимаются турки.
«Москва, Астрахань, Персия, Индия» — в этой мечтательной бунинской цепочке явно пропущен Стамбул: по соображениям картографической прямоты, вероятно. Жизнь откорректировала классика бойким сообщением по маршрутам Сочи—Трабзон и Новороссийск—Стамбул.
У причалов Каракёя выстроилась русская кафедра: «Профессор Щеголев», «Профессор Зубов», «Профессор Хлюстин»; профессорские матросы выходят на сухопутный торговый промысел. В Лалели полно русских вывесок: «Центр кожи», «Переговорный пункт», «Молдова—Кишинев, Одесса—Херсон». В Каракёе — ряд кабачков: «Дедушка», «Почувствуйте разницу, ё-моё!». Чувствуешь, сидя у окна: под тобой рыбный рынок, перед тобой Золотой Рог, за ним — Айя-София. Ё-моё!
Наконец-то! Исполнилась многовековая мечта. Победой прославлено имя твое, твой счет на вратах Цареграда.
Слеза на ветру
На базаре начинаются занимающие 284 октавы стамбульские похождения байроновского Дон Жуана. В него, попавшего в плен к пиратам и выставленного на продажу с другими рабами, влюбляется жена султана и покупает его. Переодетого женщиной Дон Жуана приводят в гарем, но он султанше отказывает: «Любовь — для свободных!» Манифест имеет по-английски и дополнительный смысл: «Любовь бесплатна», — говорит Байрон, заплативший высокую цену вечной разлуки за свою любовь к сестре Августе.
Рыночная тема любви возникает на невольничьем рынке, откуда русский переводчик убрал русских: «...Доставив на большой стамбульский рынок / Черкешенок, славянок и грузинок». В оригинале — Russians. Чуть дальше, уже среди рабов-мужчин — снова отсутствующие в переводе Russians. Невыносима, что ли, была мысль о пленении и продаже русских, а так — может, это и полячишки. Русские переводы, не только Байрона — волей-неволей, а иногда и прямо волей — идеологичны. Еще хуже — когда откровенно неряшливы. В «Плавании в Византию» Йейтса, которое обыгрывает Бродский в английском варианте своего эссе «Путешествие в Стамбул» — «Бегство из Византии», — фигурирует рыба. Откуда взялись в переводах «тунцы» и того пуще — «осетр» (это в Черном-то море!)? У Йейтса яснее ясного: «mackerel» — макрель, или, по-нашему, скумбрия, справились бы напротив, в Одессе. Спросишь — скажут, мелочи, главное — дух, но ведь оригинал почему-то точен. (Это еще к тому, что почти все байроновские фрагменты — из дневников, писем и даже стихов — приходится переводить заново.)
Байрону — как Йейтсу, как Шекспиру, как очень многим — у нас не повезло: он куда резче, корявее, современнее, чем в переводах. Изумляешься, сопоставив с подлинником, — во что превратились простые байроновские образы под пером байронических его перелагателей. Один из персонажей Джейн Остин говорит о расхожем романтизме: «Я назову холм крутым, а не гордым, склон — неровным и бугристым, а не почти неприступным, скажу, что дальний конец долины теряется из вида, хотя ему надлежит лишь тонуть в неясной голубой дымке». Довольно точное описание метаморфозы Байрона в русском переводе. В переводе не только буквальном, но и в идейном. Тот же остиновский герой: «Добротный фермерский дом радует мой взгляд более сторожевой башни, и компания довольных, веселых поселян мне несравненно больше по сердцу, чем банда самых великолепных итальянских разбойников». Перед нами — прозаический пересказ стихотворения Лермонтова «Родина»: «полное гумно», «изба, покрытая соломой», «пляска... под говор пьяных мужичков». Но таков самый поздний Лермонтов — каким он толком не успел стать. Лермонтов же как властитель дум — это поэтика «гордых холмов» и «неприступных склонов»: нет, не Байрон, а другой — байрон.
Слишком известно, как много у нас было байронов, — достаточно сказать, что того не избежал даже Пушкин. Значение Байрона в России — больше, чем где-либо, что объяснимо: Европе идея личности была уже знакома, в России она тогда и началась. «Отважный исполин, Колумб новейших дней, / Как он предугадал мир юный, первобытный, / Так ты, снедаемый тоскою ненасытной / И презря рубежи боязненной толпы, / В полете смелом сшиб Иракловы столпы...» — Вяземский.
Бертран Рассел в своей «Истории западной философии» выделил Байрона в специальный раздел, поставив его, таким образом, в один ряд с Кантом, Гегелем, Шопенгауэром, хотя ясно, что никакой философской системы у Байрона нет. Зато есть модель жизни. Мировоззрение, точнее — мироощущение. Не «мир и я», а «я и мир». То, что внутри, не уступает по богатству и сложности тому, что снаружи, и главное — важнее и значимее. После Ницше, Фрейда, экзистенциалистов тезис выглядит трюизмом, но первым это постулировал Байрон. Причем в наиболее доступной художественной форме: увлекательными стихами.
Сопоставимость несопоставимого, превосходство над превосходящим, нарушение элементарных законов арифметики и физики во имя торжества человека над человечеством — вот что получило зауженное и, по сути, нелепое имя «романтизм». Радикальнее открытия в людской истории не было. У истоков романтизма — того способа отношения человека с жизнью, который продолжается по сей день, — стоят три имени: Наполеон, Бетховен, Байрон. Один показал, на что способна волевая личность, второй задал темп и ритм освоения мира, третий явил образец поведения и облика.
Байрон «расширил сферу интимного до немыслимых пределов». Пожалуй, это наиболее точная и емкая формулировка его достижений (хотя Венедикт Ерофеев высказался так совсем по другому поводу).
Еще раз Остин: «Беда поэзии... в том и состоит, что редко кто наслаждается плодами ее безнаказанно и что она более всего впечатляет нас при том именно состоянии души, когда нам менее всего следовало бы ею упиваться». Взгляд настолько рациональный, что почти медицинский. Его можно принять как диагноз русского байронизма, который у нас оказался таким долговременным: от Онегина и Печорина до Корчагина и Мелехова. Да и дальше: до тех недавних времен, когда были растабуированы деньги. Советский романтизм уговаривал обрести крылья, российский консьюмеризм — приобрести крылышки. Прокладки с крылышками. Не крылья Советов, а крылышки полезных советов.
Примечательно, что сам Байрон о низких предметах говорил уважительно: «Деньги единственная твердая и неизменная опора, на которую следует полагаться умному человеку».
Не вяжется с байронизмом, но с Байроном — вполне. Явственная и яркая его характеристика, выступающая из дневников и писем, — здравый смысл. Пожалуй, только в «Дон Жуане» явлен тот же трезвый Байрон — дневниковый, эпистолярный. До того он сознательно и скрупулезно разрабатывал пойманные в «Чайльд Гарольде» образ и идею лихой личности, отчаянно противостоящей миру. И не менее успешно трудился над таким своим жизненным обликом.
Байрон был, вероятно, первой суперзвездой современного типа. В нем сошлось все, что выводит на первые полосы газет и в заголовки теленовостей. Родовитость — как у принца Чарльза, богатство — как у Гетти, красота — как у Алена Делона, участь изгнанника — как у Солженицына, причастность к революциям — как у Че Гевары, скандальный развод — как у Вуди Аллена, слухи о сексуальных отклонениях — как у Майкла Джексона. Не забудем и талант.
Он преуспел бы на радио: современники отмечали глубокий, бархатного тембра голос. Он покорял бы телезрителей редкой красотой, не просто данной от природы, но и которой — сам свой старательный имиджмейкер — добивался тяжелым постоянным трудом. Ел обычно раз в день, в основном рис и овощи, изнуряя себя диетой, так как был склонен к полноте. Пил, за исключением ранней молодости, очень мало, временами бросал вовсе. Целенаправленно и упорно занимался спортом: боксировал под руководством лучших бойцов того времени, по возможности ежедневно ездил верхом, совершал долгие заплывы.
Трусцой Байрон не бегал только оттого, что ходил трусцой, и врожденный дефект ступни, сделавший его хромым на всю жизнь, можно считать решающим обстоятельством в открытии романтизма. Как малорослость Наполеона и глуховатость Бетховена.
Современники отмечали магнетизм Байрона. Он знал это свое качество, но не доверял стихийному обаянию, работал над образом. И был прав. «Толстый поэт — мне кажется, это какая-то аномалия», — записала леди Блессингтон перед встречей с Байроном в Венеции, напуганная слухами об изменении его облика. Он не подвел.
Переплыв Дарданеллы в том самом месте, где Леандр плавал к Геро и где Геллеспонт пересек Александр Великий, Байрон написал об этом, кажется, всем своим корреспондентам. Так же, как о фразе Али-Паши в Янине: «Он сказал мне, что я человек высокого происхождения, потому что у меня маленькие уши, вьющиеся волосы и маленькие белые руки». Эти слова Байрон без устали повторял в письмах, зная, что их будут цитировать в лондонском обществе. Восхищавшийся им Стендаль тем не менее язвительно записал: «Когда лорд Байрон забывал о своей красоте, он предавался мыслям о своем высоком происхождении».
Он знал свои козыри и козырял. Его и воспринимали суперзвездой. Шелли пишет о 1816 годе на Женевском озере: «Жители домов, выходивших на озеро напротив дома лорда Байрона, пользовались подзорными трубами, чтобы следить за каждым его движением. Одна английская дама от испуга лишилась чувств, когда он вошел в гостиную».
Обморок случился, скорее всего, не только от возбуждения в присутствии кумира, но и от его демонической репутации — развратник и изгой.
На деле, говорить можно о самоизгнании, вызванном установкой на изгнанническую судьбу. Безнравственностью и промискуитетом Лондон начала XIХ века удивить было трудно, и похождения Байрона ничем особенным не выделялись, хотя он действительно был развратен и в разврате азартен.
Его дневники и письма не оставляют сомнений в гомосексуальных связях — как проявлении пансексуализма, того, что по-русски изящно именуется «... все, что движется». Он не стеснялся перед друзьями: «Я отложил было перо, но обещал посвятить раздел состоянию морали, и следующий трактат на эту тему будет озаглавлен «Содомия облегчена и педерастия одобрена древними авторами и современной практикой». Или — о портовом городке Фалмуте, «прелестном месте», которое предлагает «Plen. and optabil. Coit.» (так приятели прозрачно кодировали «многочисленные и разнообразные половые сношения»): «Нас окружают Гиацинты и другие цветы самого ароматного свойства, и я намерен собрать нарядный букет, чтобы сравнить с экзотикой, которую мы надеемся встретить в Азии. Один образец я даже возьму с собой». Речь шла о юном красавце Роберте Раштоне, который был у Байрона пажом, как Гиацинт — у Аполлона. В Афинах появился новый фаворит — 15-летний Николо Жиро. Что до Азии, то Байрон упоминает «турецкую баню, мраморный рай шербета и содомии». В Константинополе это дело было поставлено широко. Несколько позже Флобер писал о целой улице мужских борделей, о том, как их обитатели покупают засахаренный миндаль на только что полученные от клиентов деньги: «Так анус наполняет желудок, тогда как обычно все наоборот».
Однако эта сторона байроновской любовной активности, во-первых, проступает лишь при чтении всего его наследия, современникам недоступного, во-вторых, она вообще незначительна. Главным всю жизнь были женщины.
Таким образом, единственное нестандартное явление личной жизни Байрона — отношения с Августой, пусть и сводной, только по отцу, но сестрой. Правда, это были тогда лишь слухи, какие в годы регентства переносили снисходительно. Суть не в том, что происходит, а как это подается. Можно безобразничать, но нельзя хамить. Байрон же оказался сам своей собственной желтой прессой, с усердием таблоида откровенничая в гостиных о запретных — для произнесения, только для произнесения вслух — вещах. «Главным недостатком Байрона было его извращенное стремление создавать себе дурную репутацию... Не исключаю, что это было болезненное проявление тщеславия», — отмечает современник. Байроновское самоизгнание стало логическим завершением свободного словоговорения.
Подлинное его отношение к женщинам затуманено романтическими клише в стихах, эффектным скепсисом в «Дон Жуане», разговорным цинизмом в письмах. Лишь изредка прорывается нечто неожиданное — надо думать, окрашенное глубокой и трагической любовью к Августе: «Странно, как скоро мы забываем то, что не находится постоянно перед нами... Я исключаю воспоминания о женщинах: им нет забвения (будь они прокляты) более, чем любым иным выдающимся событиям, вроде «революции», или «чумы», или «вторжения», или «кометы», или «войны». В оригинале записных книжек — не «женщины»: совсем по-феминистски или, лучше сказать, по-политкорректному Байрон употребляет слово Womankind — «женское человечество».
Но он был звездой и со спортивным воодушевлением настаивал на своей репутации. О всплеске его сексуального разгула в Венеции рассказывали легенды — и он охотно уточнял. В январе 1819-го Байрон пишет друзьям о слухах, привезенных в Лондон: «Какой именно случай имеется в виду? С прошлого года я прошел через строй (sic!); идет ли речь о Таручелли, Да Мости, Спинеде, Лотти, Риццато, Элеоноре, Карлотте, Джульетте, Альвизи, Замбиери, Элеоноре де Бецци (которая была любовницей неаполитанского короля Джоаскино, по крайней мере одной из них), Терезине из Маццурати, Глеттенхейм и ее сестре, Луиджии и ее матери, Форнаретте, Санте, Калигаре, вдове Портьера, болонской танцовщице, Тенторе и ее сестре и многих других? Некоторые из них графини, некоторые жены сапожников; одни благородные, другие средние, третьи низкие — и все шлюхи... Я всех их имел; и втрое больше, если считать с 1817 года».
За несколько лет до этого всплеск случился на Востоке: «У меня было больше двухсот pl&optCs, и я едва не утомился...»
Любознательность Байрона имела и теоретическое измерение. В Стамбуле, где он провел два месяца и один день, ему — одному из очень редких европейцев — удалось, использовав посольские связи, попасть в гарем султанского дворца Топкапы. Теперь-то это доступно всякому, хотя и непросто. Даже сейчас, когда тут заведомо музей, — ажиотаж: умозрительная реализация мужских желаний, генная мечта европейца о единовластном владении гибридом бани и бардака. Леди Монтегю, автор «Константинопольских писем», поминаемая Байроном в «Дон Жуане», описала турецкие бани так, что вдохновила Энгра на его знойную эротическую картину, а завистливая фантазия превратила процесс помывки в любовные услады. В Топкапы у гаремных ворот — очереди и толпы. Выделяется слаженными абордажными приемами экипаж эсминца «Гетьман Сагайдачнiй», пришедшего сюда из украинского Черного моря.
В гареме пышно, Байрон уже определил это коротко: «дурной вкус». И про весь город: «Всякая вилла на Босфоре выглядит как свеженарисованная ширма или декорация». В наши дни вдоль пролива, по обе стороны — виллы замечательного вкуса, это уже новые постройки. В байроновские времена красивые жилые дома были лишь в Пере, районе, где и по сей день чаще всего селятся европейцы, хотя тогдашний запрет на их жительство среди великих мечетей, между Мраморным морем и Золотым Рогом, давно снят.
В Пере обосновался и Байрон. Он отказался от приглашения жить в британском посольстве, но принял охрану янычар. «Я был во всех главных мечетях... Проехал по Босфору к Черному морю (где скалистые известняковые берега могли напомнить ему белые скалы Дувра. — П.В.), вокруг стен города, и знаю его вид лучше, чем вид Лондона». Ездил кататься верхом в Белградский лес, вдоль византийских стен Феодосия, мимо кладбищ с кипарисами, которые он назвал «приятнейшими местами на земле». Сейчас у стен Феодосия — нищета, причем неприличная, потому что вызывающе неопрятная, с полным безразличием к трещинам по фасаду, к отбитой штукатурке, к отсутствию намека на зелень и цветы, ко всему тому, что в руках не властей, а обывателя.
Пера, из-за которой Байрон назвал Стамбул «европейцем с азиатскими берегами», теперь именуется Бейоглу и как-то держится. На проспекте Истиклаль — оживленный променад среди обветшалых домов столетней давности, вроде моей гостиницы «Лондра» с антикварными печками-буржуйками и действующими говорящими попугаями. Посольства переехали в Анкару с переносом туда столицы в 20-е годы, но в зданиях остались консульства, и дряхлая заморская роскошь обступает вечернее гуляние, на три четверти состоящее из мужчин.
Утром, уже в половине восьмого, в заведениях без вывесок сидят за маленькими, с вдавленными боками, стаканчиками крепкого вкусного чая мужчины в начищенных туфлях и белых носках, неторопливо переставляя костяшки местного цифрового домино «о’кей», двигая шашечки местных нард «тавла», шлепая картами или просто откинувшись и надолго застыв. День начинается правильно.
Султаны знали, что делать с таким количеством незанятых мужчин. Многие об этом узнавали — Россия, Греция, Северная Африка, Балканы, даже Вена, которую тоже пыталась захватить нашедшая себе занятие конная турецкая молодежь.
Военную экспансию сменила экспансия торговая, и Евразия от Дуная до Сахалина покрылась турецким ширпотребом. В стране мужчин два достойных занятия — война и торговля.
Исламские законы в Турции упразднены, жену можно иметь лишь одну, но цивилизация — незыблемо мужская. В деревне Карахаит на стуле во дворе стоит телевизор, шесть баб смотрят свой сериал; на балкон выходит некто в халате, хлопает в ладоши, бабы споро скручивают шнур, тащат к дому телевизор, собирают стулья. На крышах сельских домов замечаешь пустые бутылки — по числу дочерей на выданье. В Конье, в глухой провинции — закутанная во все что положено женщина; погруженная в древнее искусство росписи, керамической плитки, быстрым движением выхватывает из складок одежды плейер, меняет частоту — и снова смиренный наклон головы в косынке, скрывающей наушники. Свидание на площади Галатасарай, в центре Перы. К молодому человеку подходит девушка в традиционной одежде — платок до бровей, балахон до пят. Он левой рукой показывает ей с возмущением часы, а правой коротко бьет в челюсть. Зубы лязгают, время сдвигается, пара под руку отправляется по проспекту Истиклаль.
Мужчина по-турецки — бай, женщина — баян. Понятно, что бай играет на баяне, а не наоборот.
Байрону это в Стамбуле нравилось. «Я люблю женщин — Бог свидетель, — но чем больше погружаюсь в здешнюю систему, тем хуже она кажется, особенно после Турции; здесь (в Венеции. — П.В.) полигамия целиком принадлежит женщинам».
Это голос не только и даже не столько мужского начала, сколько желания определенности, незатуманенности во всем — этикете, правилах общежития, законах, регулирующих отношения, в том числе и половые. Проблема шире — насколько шире для Байрона Стамбул и Турция, ставшие репрезентацией нового мира. Восток-Юг казался выходом из системы условностей, разработанных на рафинированном Западе-Севере. Восток — реальность которого во многом была создана поэтическим воображением — представлялся свободой.
Среди тех своих великих современников, кто увлекался ориентализмом — Гёте, Гюго, Скотт, — Байрон занимает особое место: он на Востоке жил. И почувствовал вкус к простоте, к резким и оттого внятным контрастам. «Я предпочел бы Медею любой женщине» — это желание остроты, которая предпочтительнее цивилизаторской нивелировки. «Любовь — для свободных!»
Ненависть Байрона к каким бы то ни было регуляциям и канонам выливается в брюзжание по поводу своей страны — самого организованного в то время британского общества: «Терпеть не могу ваш Гайд-парк, ваши казенные дороги, мне нужны леса, ложбины, пустоши, в которых можно раствориться. Мне противно знать, куда ведет дорога, и отвлекаться на верстовые столбы или на мерзавца, требующего два пенса на заставе». (Сравним с раздражением россиянина на платных дорогах Америки или Франции, даром что дорогах превосходных.) В «Дон Жуане» Байрон еще резче: «Дорога в ад очень похожа на Пэлл-Мэлл». Везде в письмах с Востока он называет Британию — your country: «ваша страна». «Родственные узы кажутся мне предрассудком, а не привязанностью сердца, которое делает свой выбор без принужденья». Он и сделал непринужденный выбор в пользу восточного обычая против западного устройства.
Байрон, погибший за освобождение греков от турок, говорил удивительные вещи: «Вот слово турка — это надежное слово, а на греков полагаться нельзя...», «Мне нравятся греки, это симпатичные мошенники — со всеми пороками турок, но без их отваги», «Я провел изрядное время с греками, и хотя они уступают туркам...», «То достоинство, которое я нахожу у турок повсеместно...» и т. д.
«Он умер, как крестоносец в борьбе с мусульманами», — красиво высказался Рассел. Да, но это величайший парадокс жизни Байрона, предпочитавшего Восток Западу и не ставившего христианство выше ислама. Более того, его жена Аннабелла и Исаак Дизраэли оставили свидетельства о том, что он всерьез обсуждал идею перехода в ислам. Свободу Байрон, правда, ценил выше и Востока, и Запада, и любой из религий. За это и умер в Миссолунги официальным — по провозглашению султана — врагом своей любимой Турции.
«Душа все время влекла его на Восток», — записал со слов Байрона в 1822 году Э. Дж. Трелони.
Восток — это был вариант. Жизненная альтернатива. Восток как опыт (реальный и, главное, умозрительный): иного пространства — огромного, немеряного, незанятого; иного времени — глубже древность, дольше день, медленнее ритм; иного человека — подчиненного своим неведомым условностям, оттого казавшегося безусловнее, первозданнее, свободнее.
Неизбежно путешественник ощущал себя концом грандиозной цепи, наследником Библии, Александра, крестоносцев, Наполеона. Отсюда — новый для западного сознания размах ориенталистских поэм Байрона, отсюда его необычные, поразившие воображение столь многих и породившие столь много подражаний сюжеты и герои «Гяура», «Абидосской невесты», «Корсара», «Лары», вдохновленного Востоком «Чайльд Гарольда», освоившего Восток «Дон Жуана».
Лотофаг Байрон в пять промежуточных британских лет — между путешествием и самоизгнанием, — едва что-то шло не так, заводил речь о Юге и Востоке: он уже знал, как нужно бороться с прославленным им же самим сплином.
Словно о Байроне через полтора века после его смерти написал Бродский:
...В кошачьем мешке у пространства хитро
прогрызаешь дыру,
чтобы слез европейских сушить серебро
на азийском ветру.
Пиджаки на мосту
У самого Бродского, в двадцать два написавшего эти строки о себе, жизнь сложилась ровно наоборот. Двумя годами позже в сочиненных по мотивам Байрона «Новых стансах к Августе» он — как оказалось позже, полемически и пророчески — сформулировал: «Мне юг не нужен». Ему в самом деле нужен и дорог всегда был Запад и Север, а не Восток и Юг. Он и в Ялту, и в Венецию ездил — зимой. «Я предпочел бы Медею любой женщине», — сказал Байрон. По Бродскому, Медея — внедрение восточной дикости в эллинскую цивилизацию: наведение ужаса. И перемещение из Турции в Грецию — антибайроновское. Под «Путешествием в Стамбул» значится: «Стамбул — Афины, июнь 1985», и эта строка — не справка, а важный эпилог с обозначением культурных и эмоциональных полюсов, где тире — выдох: выход. Возвращение к норме. Турция сопрягается с Грецией — по-байроновски, только с обратным знаком.
Эссе написано под Афинами, на Сунийском мысу, где на колонне изящнейшего храма Посейдона видна глубоко процарапанная подпись Байрона. Тот расписывался всюду. Я видел его автограф на руинах храма в Дельфах: он почти незаметен, но опытные гиды смачивают мрамор водой, и имя проступает. Байрон был настоящий турист: «Должен сказать, я никогда не считал удачной мыслью Nil admirari». Этот антитуристический принцип — «ничему не удивляться» — в равной степени чужд и Бродскому. Он начисто лишен столь распространенного среди соотечественников снобизма, этакой оттопыренной губы: «видали».
Тем более примечательно его раздражение, уже почти брюзжание по поводу увиденного и пережитого в Стамбуле.
Бродский — путешественник, восторгавшийся глухими страшноватыми городками Сицилии, обожавший шумный, грязный, опасный Неаполь, находивший очарование в неприглядных мексиканских базарах, — решительно не воспринимает Стамбул. При этом никаких особых неприятных обстоятельств не было: короткий визит протекал гладко и стандартно.
Бродский жил в пяти минутах ходьбы от британского консульства, где бывал Байрон, — в гостинице «Пера палас», напротив моей «Лондры». Украшенная теперь сателлитной тарелкой на крыше, «Пера» — по-прежнему самый примечательный отель Стамбула, как и во времена, когда тут жили Грета Гарбо и Агата Кристи, с тяжелой гаремной роскошью интерьера арт-нуво. Вечером в ресторане какой-то гнесинский виртуоз за роялем чередует «Очи черные», шопеновский вальс, «Из-за острова на стрежень». В меню — шиш-кебаб Карс. Как протянулись турецкие щупальца: в самом деле, Карс-то у них, как и Арарат.
Бродский вспоминает в эссе самаркандские мечети — но этот абрис знаком ему с детства: импозантное сооружение на Петроградской стороне. Не чета жалкой московской мечети в Выползовом переулке, единственной на огромный город советских времен, в котором татары занимали второе место по численности после русских: грязный двор, сломанные двери в сортире с узкогорлыми кувшинами для подмывания, но в скромном молельном зале — вдруг роскошные синие ковры, подарок иранского шаха. Ленинградская мечеть напоминает стамбульские — может, и это сыграло роль?
Так или иначе, что-то ведь побуждает Бродского сказать про одно из значительнейших мест мировой истории: «...Город этот — все в нем — очень сильно отдает Астраханью и Самаркандом». И еще усугубляя, уточняя за счет знакового имени: «...Помесь Астрахани и Сталинабада».
Тень Сталина неизбежно осеняет российского человека в Турции. А ведь Бродский не видал мавзолей Ататюрка в Анкаре — высокий, широкий и пустой город на холме над столицей не сравнить с крохотными кубиками на Красной площади. Впрочем, культ Ататюрка — в стране повсюду. Бюсты у любого казенного заведения, будь то полицейский участок или школа. На сувенирных тарелках в обрамлении одинакового орнамента — Ататюрк, Сулейман Великолепный, Ататюрк, Богоматерь с младенцем, Ататюрк. Фотографии вождя в каждой парикмахерской, овощной лавке, автобусе — чего не было с образом Сталина, который не позволяли так профанировать. Здесь же демократия и свобода, запретить или навязать портрет нельзя — значит, это любовь.
Отсюда, надо думать, и всплыл Сталинабад. Но Стамбул не виноват. Виноват — Константинополь.
Второй Рим, за которым последовал Третий.
Империя, рухнувшая ровно за полтысячи лет до смерти могущественнейшего из императоров ХХ века.
«Путешествие в Стамбул» — самое, вероятно, уязвимое сочинение Бродского: с точки зрения историка, богослова, филолога, логика. Эссе, временами почти статья, едва не трактат, существует по законам лирического стихотворения. Неуязвимость же «Путешествия» в том, что автор то и дело — как ни в одном из своих сочинений — признается в субъективности. И главное — постоянно перемежает утверждения самоопровержениями. Эссе о Стамбуле — наглядный пример той жизненной позиции, которую Бродский сформулировал в обращенном к Томасу Венцлове «Литовском ноктюрне»: «...Вся жизнь как нетвердая честная фраза на пути к запятой». Запятая необходима и после названия города, о котором идет речь, — перед уточняющим историческим его именем.
Для Бродского Стамбул — город, который был Константинополем. Не зря он, сравнив мечети с жабами, а минареты с угрожающими ракетами, все же оговаривается: «На фоне заката, на гребне холма, их силуэты производят сильное впечатление...»; не зря оправдывается: «Наверное, следовало... взглянуть на жизнь этого места изнутри, а не сбрасывать местное население со счетов как чуждую толпу... психологическую пыль». Говоря о том, что на Востоке нет «хоть какого-нибудь подобия демократической традиции», он подчеркивает: «Речь... идет о Византии до турецкого владычества... о Византии христианской».
В позднем, 92 года, стихотворении «К переговорам в Кабуле» — снова антивосточная, антиисламская декларация. И снова понятно, что речь не собственно о Востоке и исламе как таковых, а о подавлении личности, об авторитарности, всяческой несвободе вообще.
«Путешествие в Стамбул» разбито на сорок три короткие главки — от четверти до двух страниц. Как нигде, Бродский иллюстрирует здесь свой тезис о сугубой важности композиции — «самое главное, что за чем идет», как он выражался. Чередование живых зарисовок и «теоретических» фрагментов. Первые — стихи в прозе: «Бред и ужас Востока. Пыльная катастрофа Азии. Зелень только на знамени пророка. Здесь ничего не растет опричь усов. Черноглазая, зарастающая к вечеру трехдневной щетиной часть света...» Вторые — суть историко-этико-эстетические обоснования яростного неприятия Стамбула-Византии.
У Льва Лосева, лучшего знатока Бродского, есть стихотворение, герой которого, легко опознаваемый поэт, говорит: «...Оскорбительны наши святыни, / все рассчитаны на дурака, / и живительной чистой латыни / мимо нас протекала река». Река с живым течением — антитеза церемониальной неподвижности византийской культуры. За то тысячелетие, что существовала Византия, на Западе были Августин и «Беовульф», Вестминстерское аббатство и «Песнь о Роланде», Абеляр и Болонский университет, трубадуры и Нотр-Дам, Марко Поло и Данте, Джотто и Боккаччо, Ганза и Чосер, Гус и Брунеллески, Жанна д’Арк и Гутенберг. Речь — о колоссальном многоообразии явлений. Византия на восточный, почти на японский, лад наслаждалась изысками нюансов.
С. Аверинцев называет «загадочной» византийскую «отрешенность от содержательной связи с историческим временем. Каким образом обитатель богохранимого града Константинополя, родившийся через полтысячелетия после окончательной победы христианской веры, сумел с такой легкостью надеть маску язычника?..» Не предположить ли в этой «чрезвычайно знаменательной черте «византинизма» известное равнодушие к категории содержательности вообще? И не усмотреть ли в византийском происхождении истоки той легкости, с которой пала тысячелетняя христианская вера в 17 году? Мгновенность распада подтверждается множеством разных свидетельств — «Окаянными днями» Бунина, «Десятью днями» Рида, мемуарами Коковцева, стихами Георгия Иванова, дневниками Чуковского... Ярче всего — «Апокалипсисом наших дней» Розанова: «Русь слиняла в два дня. Самое большее — в три... Поразительно, что она разом рассыпалась вся, до подробностей, до частностей». Ритуал сменился ритуалом.
Имя Аверинцева возникает здесь не случайно. Есть ощущение (хоть и нет прямых тому подтверждений), что Бродский полемизирует с ним, давая оценку следствиям исторического явления, которое Аверинцев описал так: «Христианство смогло стать духовным коррелятом абсолютистского государства». Бродский в «Путешествии в Стамбул» настаивает: «...Политеизм синонимичен демократии. Абсолютная власть, автократия синонимична, увы, единобожию. Ежели можно представить себе человека непредвзятого, то ему, из одного только инстинкта самосохранения исходя, политеизм должен быть куда симпатичнее монотеизма».
На этом инстинкте самосохранения — нравственного! — стоит задержаться. Тезис Аверинцева: «Мудрость Востока — это мудрость битых, но бывают времена, когда, по пословице, за битого двух небитых дают. На пространствах старых восточных деспотий был накоплен такой опыт нравственного поведения в условиях укоренившейся политической несвободы, который и не снился греко-римскому миру...» Бродский против такого кошмарного сна, тем более — яви, «мира с совершенно отличными представлениями о ценности человеческого существования, нежели те, что были в ходу на Западе». Против мазохистской установки на «битость». Любопытно подыскать тут Бродскому неожиданного союзника — Солженицына. Герой и пациент «Ракового корпуса» Костоглотов разговаривает с интеллигентной санитаркой о западных людях и их литературе: «Какая-то легкомысленная их перебросочка. Так и хочется их осадить: эй, друзья! а — вкалывать вы как? а на черняшке без приварка, а? — Это несправедливо. Значит, они ушли от черняшки. Заслужили».
Страшный «опыт нравственного поведения», вызванный условиями деспотии, не возвышает, а унижает. Растворяет в массе — уже почти и не человеческой. Награждает «почетным статусом жертвы истории» — саркастически пишет Бродский, отказываясь от этого статуса: «Я... жертва географии. Не истории, заметьте себе, географии. Это то, что роднит меня до сих пор с державой, в которой мне выпало родиться...»
«Роднит с державой» — фигура не противо-, но сопоставления. Бродский — не беглец, не жертва политических репрессий, а изгнанник, не откуда-то, а вообще. Свой самый лирический сборник — единственную в русской словесности книгу, все стихотворения которой посвящены одной женщине, — он назвал «Новые стансы к Августе», с обложки введя мотив принципиального байроновского изгнанничества.
В этой теме и в самой его позиции изгнанника «Путешествие в Стамбул» занимает особое место. Евразийская судьба Руси, сравнение СССР с Оттоманской империей, Суслова — с Великим муфтием и т.д. В тех сорока пяти стихотворениях и циклах Бродского, которые можно отнести к жанру путешествия, не найти столь прямого — и сразу — обозначения идейной точки отсчета, какой у русских авторов в этом жанре выступает родина. В эссе уже во второй главке отмечено, что Ленинград и Стамбул — почти на одном меридиане. И на протяжении всего длинного (35 страниц) сочинения автор ни на миг об этом не забывает. Стамбулу достается не по заслугам: город расплачивается за Россию и Советский Союз, или, как всегда говорил Бродский, избегая обоих названий, — за отечество.
Точка отсчета в этом «Путешествии» совпадает с гипотетической точкой прибытия, тем местом, которое Бродский не называл ни «Ленинградом», ни «Петербургом», предпочитая — «родной город». Таким умозрительным совмещением можно объяснить болезненную остроту его стамбульских ощущений: раздражение и гнев вызывает лишь небезразличное, близкое, родное. Заостряя — и в этом следуя примеру эссе Бродского, — можно сказать, что в Стамбуле он прорепетировал возвращение в родной город.
Поэт уже по роду своих занятий — эксцентрик и изгой, и тем более драматизируется его судьба, когда метафизическая чуждость дополняется и усугубляется физическим изгнанием или самоизгнанием: Овидий, Данте, Гюго, Байрон... Плеяда русских после 17-го. Бродский.
Прожив на Западе около четверти века, он так и не съездил в Россию. Тема невозвращения, нежелания вернуться — хоть на короткое время — как неотъемлемая часть поэтического образа всегда будет волновать и побуждать к догадкам. При жизни Бродского можно было задать вопрос, и он отвечал: говорил о том, что туристом в отечестве быть не хочет, что если ехать, то навсегда, а это по многим причинам невозможно. Может быть, «Путешествие в Стамбул» — путешествие в Стамбул — дает некоторое уточнение.
О побудительных мотивах поездки на Босфор («плавания в Византию») Бродский не говорит — вернее, называет опять-таки много причин, что обычно скрывает одну истинную. Все перечисленные в начале эссе самому автору представляются «легкомысленными и второ-, третьестепенными», включая «главную» — проверку гипотезы крестного знамения императору Константину: этот повод Бродский называет «верхом надуманности». И тут же мельком, походя, роняет: «В конце концов, я прожил 32 года в Третьем Риме, примерно с год — в Первом. Следовало — для коллекции — добрать Второй». Не предположить ли, что в такой почти проговорке и содержится основная причина: испытать то, что невозможно было в 85-м испытать в отечестве, в родном городе; проверить вариант возвращения, что было тогда даже не гипотезой, а фантастикой.
Примечательно беглое просторечие — «добрать до коллекции». Небрежность — смысловая, стилистическая — встречается в эссе постоянно: автор настаивает на необязательности своих суждений, высказанных нарочито легким тоном, именно для того, чтобы снизить градус собственной страстности, столь необычной для Бродского-прозаика, чтобы затушевать степень личной заинтересованности, одержимости предметом. Слишком явственно Бродский увидал за Вторым Римом — Третий. «Взглянуть на отечество извне можно, только оказавшись вне стен отечества». Репетиция возвращения состоялась. Результат известен.
Разумеется, Стамбул — метафора. Нагнетание стамбульских ужасов — жара и вонь, теснота и узость, грязь и пыль и т.п. — резко преувеличенное: я был в Стамбуле тремя месяцами позже — в конце лета 85-го. В прекрасной статье «Путешествие из Петербурга в Стамбул» Т. Венцловы, перечисляя атрибуты ада в эссе Бродского, указывает на более глубокую, чем просто геополитическая, метафору, говорит о катабазисе, нисхождении в царство мертвых.
Метафора — несомненно. Но есть и неприятие эстетики. Оскорбление зрения, обоняния, слуха. Есть простая нелюбовь к неряшливому выбросу эмоций, базару чувств. (Снова Лев Лосев: «Не люблю этих пьяных ночей, / покаянную искренность пьяниц, / достоевский надрыв стукачей...»)
Обрушиваясь на целый народ и страну, Бродский дает беглое афористичное пояснение: «Расизм? Но он всего лишь форма мизантропии».
Мотив принципиальной — расовой — чуждости в связи со Стамбулом оказался устойчивым. В стихотворении «Ritratto di donna», написанном восемь лет спустя, тезисы эссе словно прессуются в краткие стихотворные строчки:
...Зима. Стамбул.
Ухмылки консула. Настырный гул
базара в полдень. Минареты класса
земля-земля или земля-чалма
(иначе — облако). Хурма, сурьма.
Другая раса.
Можно даже предположить, кто этот консул, во всяком случае, кто это мог бы быть — Константин Леонтьев, умерший в тот год, когда Россия получила свободный проход через Босфор (Достоевский не дожил до своей заветной мечты десяти лет). О Леонтьеве вспоминает Бродский в «Путешествии» — о его «крике, раздавшемся именно в Стамбуле, где он служил при русском посольстве: «Россия должна править бесстыдно!» Что мы слышим в этом паскудном пророческом возгласе? Дух века? Дух нации? Или дух места?»
Если и был таков дух места, то он сильно переменился: когда видишь в Стамбуле — Стамбул.
С утренних паромов, которые приходят к Галатскому мосту из разных районов города, выгружаются толпы, распределяясь по автобусам и долмушам. Это маршуртные такси, и когда я впервые попал в Стамбул в 85-м, долмуши были — «бьюики» 40—50-х, полученнные по плану Маршалла. Все, отдаленно напоминавшее роскошь, выдиралось изнутри, и в «бьюик» набивалось до двенадцати человек — зависело от толщины пассажиров, громоздкости багажа, дальности рейса. Такой автороскоши, смутно памятной по американской выставке в Москве (одна из эффектных побед Штатов в холодной войне), в Стамбуле уже почти не осталось. Теперь долмуши — аккуратные желтые микроавтобусы.
С минаретов кричат громкоговорители голосами муэдзинов, по Галатскому мосту через Золотой Рог движется огромная однородная масса в кепках — вспомнилась Махачкала. Настоящий мусульманин не может носить головной убор с полями или козырьком, потому что во время молитвы надо касаться лбом пола, не обнажая головы. Так что нынешние кепки — яркий знак вольнодумства страны. Кепка как инакомыслие: ничего для нас удивительного — а узкие брюки, а длинные волосы?
Кепки и темные пиджаки — почти униформа. Я вдруг понял: это и есть та «пиджачная цивилизация», которой страшился Константин Леонтьев, не догадываясь о ее будущем реальном облике, — он-то имел в виду пиджаки парижских буржуа. Увидел бы эти в своем любимом Константинополе — отрекся бы от тезки-города.
Нынешний усредненный базар — не то, о чем Леонтьев, пожив в Стамбуле, тосковал всю жизнь; не то, что привлекало Байрона, бывшего для Леонтьева образцом. «Пишут поэзию, а сами ее не соблюдают в жизни... Очень некрасива физически нынешняя слава писателей. Вот слава и жизнь — это Байрона... Этому можно и позавидовать, и порадоваться. Странствия в далеких местах Турции, фантастические костюмы, оригинальный образ жизни, молодость, красота, известность такая, что одной поэмы расходилось в 2 недели 40 000 экземпляров... Сама ранняя смерть в Миссалонгах, хотя и не в бою, — венец этой прекрасной, хотя, разумеется, нехристианской жизни».
Характерная оговорка в конце. Леонтьев считал, что «Байрон для христианства истинного очень вреден» — языческой красотой жизни и отношения к жизни, надо думать. Но «вредность» Байрона — это уже леонтьевский предпоследний год, Оптина пустынь, перед пострижением. Прежде он скорбел о тщетности великолепных Байроновых усилий, о том, что он выбрал не ту сторону баррикад: «...Интересная Греция «Корсара»... — есть лишь плод азиатского давления, спасительного для поэзии, и освобожденный от турка корсар наденет дешевый сюртучишко и пойдет болтать всякий вздор на скамьях афинской «говорильни».
Логика Леонтьева византийски безжалостна: «Пока было жить страшно, пока турки часто насиловали, грабили, убивали, казнили... пока христианин был собака, он был более человек». Леонтьевская «цветущая сложность» более всего страшится пиджака и носителей пиджака, которые пытаются «разлитием всемирного равенства и распространением всемирной свободы сделать жизнь человеческую на земном шаре уже совсем невозможной...».
Иосиф Бродский знал то, чего не мог знать Леонтьев, тем более — Байрон. За Бродским — опыт ХХ века, с его страшными героями, масштабы и деяния которых не мнились деспотам Востока. «Цветущая сложность» оборачивалась таким образом, что единственным — бескровным и достойным — противовесом оказывалась «пиджачная цивилизация».
Отношение Бродского к контрастам бытия лучше всего выражено в его эссе с декларативным заглавием «Похвала скуке», в американских стихах, которые он однажды прокомментировал: «Ощущение скуки, которое здесь описано, действительное. Но это было и замечательно. Мне именно это и нравилось. Жизнь на самом деле скучна. В ней процент монотонного выше, чем процент экстраординарного. И в монотонности, вот в этой скуке — гораздо больше правды, хотя бы Чехова можно вспомнить... В этой скуке есть прелесть. Когда тебя оставляют в покое, ты становишься частью пейзажа... Нам всё пытаются доказать, что мы — центр существования, что о нас кто-то думает, что мы в каком-то кино в главной роли. Ничего подобного».
В знаменитом стихотворении Бродского есть строка: «Что сказать мне о жизни? Что оказалась длинной». В этих словах — и ужас, и восторг, и гордость, и смирение. Мы, оглядываясь назад или вглядываясь вперед, видим вершины. Взгляд поэта проходит по всему рельефу бытия, охватывая прошлые, настоящие, будущие равнины и низменности — идти по которым трудно и скучно, но надо.
Учитывая место, о котором идет речь, можно назвать такой пафос — антилеонтьевским. Антибайроновским, в конечном счете.
От этого отношения и пострадал Стамбул. Бродский, обыгравший в английской версии своего эссе стихотворение Йейтса, по-иному истолковал дух времени, о котором в йейтсовском «Плавании в Византию» сказано — «рукотворная вечность». Город, так напоминающий об империи к северу — империи, по всем тогдашним признакам вечной, — размещен на пространстве, которое вызывает физическое отвращение автора, он не жалеет эпитетов и деталей, описывая шум, грязь и особенно пыль.
Пространство, по Бродскому, вообще иерархически ниже времени, подчиненнее, несущественней: ставка на пространство — характеристика кочевника, завоевателя, разрушителя; на время — цивилизатора, философа, поэта. К тому же стамбульское пространство присыпано пылью. В «Путешествии» навязчива тема пыли — вещи, безусловно, негативной, противной. Однако вспомним, что в стихах Бродского пыль именуется «загар эпох». Время у него отождествляется чаще всего с тремя материальными субстанциями, способными покрывать пространство: это пыль, снег и вода. Снег в Стамбуле редкость, но воды и пыли — сколько угодно. Времени на Босфоре — в избытке. То есть — истории.
Каппадокия. Нигде
Из Стамбула летишь в Анкару, где половину времени убиваешь на мавзолей Ататюрка, но не жалко, потому что после вспоминаешь. Помимо родных ощущений, поучительно и смешно: следуя заветам Ататюрковых секулярных преобразований, преемники так увлеклись истреблением исламских аллюзий, что мемориал получился фантазией на тему греческого храма.
Дальше путь лежит в глубь Анатолии, которая всего лишь — азиатская Турция. Но привыкнуть к этой книжной античности непросто. Звонишь в справочную, чтоб уточнить номер, барышня спрашивает: «Стамбул-Анатолия или Стамбул-Фракия?»
Долго едешь на юго-восток по Галатии и Каппадокии, по непроглядным степям, где монотонность ландшафта каждые тридцать километров прерывается руинами караван-сараев, мимо огромного соляного озера, на берегу которого стоит сувенирный сарай, торгующий комками соли на память, — к плато Юргуп, к долине Гёреме.
Здесь, в Каппадокии — одно из диковиннейших мест на свете. Горы из мягкого вулканического туфа обдувались ветрами и веками, превращаясь в то, что кажется фокусами Антонио Гауди, — в фигуры причудливых плавных очертаний, которые, за неимением леса, служили укрытием и жильем. Дерево шло только на двери. В этих скалах вырубали квартиры и целые многоквартирные дома со времен хеттов. Но особенно здешнее жилищное строительство процвело с приходом ранних христиан, и Каппадокия связана с именами отцов церкви — Василия Великого, Григория Нисского, Григория Назианзина. Камень, как бы мягок он ни был, долговечнее других строительных материалов: скальные и подземные дома, склады, церкви, города на тысячи обитателей — уцелели.
Надивившись, пускаешься в обратный путь по Анатолии — через Киликию, Ликаонию, Фригию, Лидию — к морю. Фантастический пятачок жилых скал остается позади, слева отдаленным фоном — высокий Таврийский хребет, впереди и вокруг — ровно. Только уж совсем на западе, в близости моря, где среди хлопковых полей вьется чуждым здесь греческим орнаментом полувысохший Меандр, появляются оливы, дубы, жидковатые сосны, персиковые сады, холмы.
В каппадокийских степях вертикалей нет, но внезапно из ниоткуда возникают двухсот-, трехсоттысячные города — и уходят назад, как марево. Вдруг понимаешь, что страна сопоставима с гигантским соседом к северу, который теперь не такой уж гигант, а турецких 65 миллионов — это больше Британии, Италии, Франции. Некстати вспомнил, как в армии, в отдельном полку радиоразведки, подслушивал переговоры натовских баз, в том числе здесь, в Турции: в Измире, в Инджирлыке. Майор Кусков тычет в карту: «Гнезда, понимаете, свили под самым носом, названия, понимаете, даже противные — Инжырлик!»
Названия — небывалые. Оторопев, въезжаешь в город Нигде. Надо запомнить: когда пошлют туда, не знаю куда, принести то, не знаю что, — это здесь.
Ничего не понять: Нигде и стоит нигде. Безрадостный плоский пейзаж. Напоминая о том, что за ним море, с юга так все и нависает Тавр. Неказистые деревни, кладбища с обелисками, кощунственно напоминающими манекены в шляпных магазинах, придорожные мазанки с пышным именем «Бахчисарай» на кривой вывеске и неизменным кебабом из замечательной, как во всей стране, баранины. Редкие деревья вспыхивают, словно огоньки светофоров, которых нет в помине.
За что тут сражались великие державы, зачем сюда приходили? За чем? За дынями? За тыквами? Десятки километров полей с полосатыми эллипсоидами и желтыми шарами, которые столетиями покрывают эту землю. И глинобитные домики были точно такие, и, задумчиво расслабившись, не сразу замечаешь на крышах сателлитные тарелки и солнечные батареи (установка 150 долларов — и полгода без забот). Ну да, сейчас приходят за дынями: Турция завалила Восток материей и кожей, а Запад — консервами и фруктами.
Раньше сюда не приходили — здесь оказывались. Сюда несла центробежная сила империй. В этих пустых местах был наместником Цицерон, здесь Кир бился с Артаксерксом, Сулла с Митридатом, арабы с византийцами, здесь проходили гоплиты и пелтасты Ксенофонта, который написал об этом походе «Анабазис» — великую книгу, простую и волнующую. Сюда поместил Бродский действие своего стихотворения о природе и истории, о природе истории — «Каппадокия».
Как и Нигде, из ничего выплывает Конья, древний Иконий, перекресток завоеваний, а теперь — большой новый город, бурлящий вокруг изумрудного купола мавзолея Мевланы, центра секты кружащихся дервишей. Увидеть их в действии нелегко, но может повезти.
Расчисленное рациональное радение, расписанное по секундам и па, — завораживает. Под резкие звуки саза дервиши разворачиваются, как бутоны. Вращение начинается медленно, со скрещенными на груди руками, скорость нарастает, руки разводятся в стороны — правая ладонь раскрыта вверх, к Богу, левая повернута вниз, к людям, все через себя, для себя ничего — ноги переступают, как в балетном фуэте, фалды длинных разноцветных кафтанов взметаются лепестками, образуя подрагивающие круги, колпаки-пестики кажутся неподвижными, только мелькает в кружении отрешенное лицо с остановившимся взглядом. Волчки Аллаха. Живой ковер. Пестрые цветы экстаза.
Экстаза ждут, к нему готовятся, к нему готовы. Как к приливу вдохновения — поэт, которого так охотно сравнивали с дервишем, с юродивым, чей смысл — быть бездумным проводником (ладонь вверх, ладонь вниз) божественного глагола.
Нет ничего дальше от поэтической позиции Бродского. Поэт — хранитель. Остается только то, что заметил художник: «...Полотно — стезя попасть туда, куда нельзя попасть иначе» («Ritratto di donna» — «Портрет женщины»).
...Она сама
состарится, сойдет с ума,
умрет от печени, под колесом, от пули.
Но там, где не нужны тела,
она останется какой была
тогда в Стамбуле.
Фиксация в вечности дается поэтическим заклинанием. То же относится к историческим событиям и природным явлениям.
В стихотворении «Каппадокия» наблюдающий за битвой орел, «паря в настоящем, невольно парит в грядущем и, естественно, в прошлом, в истории...» Время сжимается, напоминая о байроновской метафоре: «История, со всеми ее огромными томами, состоит из одной лишь страницы...» У Бродского страницы истории исчезают вместе с человеком: «...Войска идут друг на друга, как за строкой строка захлопывающейся посредине книги...»
Только в присутствии человека обретает смысл природа: «Местность... из бурого захолустья преображается временно в гордый бесстрастный задник истории». Временно — потому что с исчезновением человека «местность, подобно тупящемуся острию, теряет свою отчетливость, резкость».
«Все мы, так или иначе, находимся в зависимости от истории», — пишет Бродский. Но и история — от нас.
История жива словом. Носители слова обеспечивают истории вечность. «Это уносят с собой павшие на тот свет черты завоеванной Каппадокии». Так унес с собой Иосиф Бродский — Каппадокию, женщину со стамбульского портрета, Стамбул: все то, чего коснулся взглядом и пером, о чем успел сказать.
Подписи к снимкам:
№1
Британское консульство в Пере. Тут находилось посольство, где бывал Байрон
№2
Гостиница «Пера палас», построенная в конце XIХ века, осталась такой же, какой была, когда тут останавливались Кемаль Ататюрк, Сара Бернар, Агата Кристи, Грета Гарбо. В 85-м — Бродский
№3
Тут, я думаю, никакой подписи не надо
Источник: http://magazines.russ.ru/inostran/1998/2/vail-pr.html
|
"Дурак" в Стамбуле
ОСТАНОВКА В СТАМБУЛЕ
Янычары и крестоносцы, бани и гаремы, бутики и базары, омары и кебаб, "вдова клико" и львиное молоко - всё это в одном городе.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ В СТАМБУЛЕ

Что осталось от "Второго Рима" - столицы Византии? Прежде всего - тридцать пять километров полуразрушенной стены, треснувшие от землетрясений башни. В выщербленные темно рыжие кирпичи упирается взгляд и на берегах Мраморного моря и залива Золотой Рог, и по дороге в аэропорт, и в бедном районе Фенер, и в более зажиточном Кумкапы. Во время поездок турист то проедет под огромным акведуком, то споткнется об обломок колонны, установленный для чего то посреди улицы, то присядет в саду выпить кофе рядом с потертой римской статуей. Из всех византийских древностей посещения достойны три объекта - Ипподром, Айя София и Цистерна, все они расположены рядом, в историческом центре византийской столицы. Ипподром ныне - большая овальная площадь, по пе риметру засаженная платанами. На площади установлены обелиск египетского фараона Тутмоса III и вывезенная из Дельфийского Оракула медная "змеиная" колонна. В последнее время обе эти древности стали особенно популярны из за многочисленных публикаций и телепередач на тему "новой хронологии". Действительно, совершенно непонятно, каким образом многотонный гранитный столб мирно простоял на неубедительных медных подставках больше полутора тысяч лет. И почему ни славянам, ни крестоносцам, ни туркам-османам не пришло в голову украсть тяжеленную медную колонну, когда даже в наше время при неизмеримо меньшей стоимости цветных ме таллов их воруют при первой возможности. Не получив более менее вразумительного ответа, туристы уходят с площади убежденными сторонниками теории академика Фоменко, что вся древняя история выдумана и требует переосмысления. Зато в Цистерне, древнем водохранилище, особых вопросов не возникает, не до того. В огромной подземной полости потолок подпирают 15-метровые мраморные колонны, в таинственном полумраке зеленеют плесневые потеки, и тускло отблескивают многовековые калыдитовые корки. Здесь прохладно даже в самый жаркий день, звучит музыка Вивальди, и камни кое-где освещены красными лампами. Когда строили Константинополь, думали об одном - как бы запереть Босфор железной цепью и с проезжих судов взимать дань. И все бы хорошо - но на выбранном для города мысу не нашлось питьевой воды. Поэтому грандиозная Цистерна когда-то была городским водохранилищем. Теперь воды в ней почти нет, и оттого Цистерна похожа на храм. Ученые считают, что некоторые колонны привезены сюда из храма Артемиды Эфесской - одного из чудес света. Так что побывавший в Цистерне может считать, что все-таки одним глазом повидал уничтоженное Геростратом творение. На одной из колонн вырезаны капли-слезы, эта колонна всегда мокрая, ее называют - "плачущая". В воду у "плачущей" колонны принято бросать монеты и загадывать желание. Базилика Цистерна открыта ежедневно, стоимость билета около $3,5. Собор Святой Софии - самое известное в Стамбуле сооружение. Особенно впечатляет собор внутри - только войдя в ворота, понимаешь, насколько он огромен "Как облако на горизонте, так и Софийский храм. О, горе! Как Господь гневается за нашу гордость, что предал святыню нечестивым туркам и допустил свой лик на посмешище и поругание - в нем курят Господи, услышь и возврати! Обождем - Господь смилуется и вернет ее с похвалой", - писал в 1910 году один из многочисленных русских паломников Григорий Распутин. Да, пятьсот лет в храме Божественной Мудрости не служат православные священники, ведь именно в соборе ворвавшиеся в Константинополь турки совершили первый намаз. Но и мусульмане теперь ходят в бывший храм-мечеть как простые экскурсанты. Создатель современного турецкого государства Ататюрк под конец жизни приказал устроить в мечети музей - частично сбылось пророчество Распутина. Мозаики расчищены, святые лики сияют в прежнем блеске, но и мусульманские медальоны на стенах отблескивают золотыми арабесками. И тихо в Айя-Софии, музейно, туристы оживляются только возле одной из колонн при входе - в ней имеется обрамленное латунным окладом отверстие, куда надо засунуть палец и повернуть кисть на 360 градусов Удалось - не все еще потеряно, не затемнили еще грехи душу, соискатель достоин счастья, можно загадывать желание. Музей открыт с 9 до 17, выходной - понедельник, стоимость билета - около $4.
ГИБЕЛЬ ВИЗАНТИИ

Завоевание турками Константинополя - величайшая катастрофа средневековья. Именно тогда были перерезаны пути из Европы на Восток. Но именно захват Константинополя вынудил испанцев и португальцев, лучших мореплавателей того времени, отправиться на поиски Индии. Прорыв войск султана Мехмета - вот настоящая причина открытия мыса Доброй Надежды и обеих Америк. Топкапы (не путать с одноименным дворцом) - неплохо сохранившиеся ворота в крепостной стене. На большой мраморной доске написано, что здесь была установлена самая большая турецкая пушка, и именно отсюда в город во рвались первые янычары, а чуть позже у ворот был четвертован и брошен на съедение собакам последний византийский император. Сейчас возле Топкапы расположился небольшой рынок, где за полдоллара можно купить початок жареной кукурузы, выпить стаканчик чая и сфото графировать приветливых потомков янычар. Еще одно напоминание о разгроме - Силиври Каписи ("Балык рум"). Это греческий православный комплекс над древним святым источником. Когда турки ворвались в Константинополь, горожане молились в одной из церквей - и всех их турки изрубили прямо во время молитвы. В то же самое время в святом источнике неожиданно появились рыбки - ровно столько, сколько было погублено молящихся. С тех пор вода источника творит чудеса - исцеляет, например, глазные болезни Священник-грек, хранитель источника, признался, что тех самых рыбок давно нет, и вместо них плавают приобретенные на зоорынке возле Топкапы обычные, аквариумные. Но главное - вера, а какие рыбки, не суть важно. Как отголосок византийских времен в Стамбуле находится резиденция Всемирного патриарха Константинопольского. Расположен Всемирный патриархат на берегу Золотого Рога, между мостами Балат и Учкапы. Одна из почитаемых реликвий резиденции - ворота, главный вход. Ворота были выкрашены в темно-коричневый цвет и навечно закрыты, когда 150 лет назад по приказу султана на них повесили тогдашнего патриарха Григория. Как ни странно, но новый патриарх появился в резиденции уже на седьмой день после казни - православные священники не слишком боялись смерти, потому и сохранили свое представительство в Стамбуле после нескольких веков жестоких гонений.
СВЯТЫНИ ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ

Иосифу Бродскому минареты Стамбула показались похожими на межконтинентальные ракеты. Скандально известный палеоархеолог Эрих фон Деникен доказывал, что стамбульские мечети - всего лишь точная копия космических кораблей инопланетян. Люди с менее развитым поэтическим воображением воспринимают минареты просто как минареты, тем более что по пять раз в день с них звучат через мощные усилители призывы муэдзинов. Мечетей в Стамбуле несколько сотен, но самые большие напоминают Айю-Софию, поэтому их легко перепутать. Напротив Айя-Софии находится Султан-Ахмет Джами - Голубая мечеть. Внутри очень красиво голубые изразцы, витражи, рассеянный свет люстр. Из всех мечетей Стамбула эта - наиболее доступна для туристов-немусульман. В остальные мечети тоже можно зайти, но обстановка там более серьезная. Голубая мечеть открыта каждый день с 8 до 18, кроме часов молитвы. Вход бесплатный, однако на выходе надо пожертвовать любую сумму, причем служитель аккуратно зарегистрирует пожертвование. Туристам-мусульманам порекомендуем зайти в святое место ислама - мечеть Эйюп. Это - место паломничества и особого почитания. Стоит посетить самую старую мечеть Стамбула - Сагриджилар-Джами у моста Ататюрка. И, конечно, все - и мусульмане, и православные могут полюбоваться на символ Стамбула - лучшее творение самого известного исламского архитектора Синана - мечеть Сулеймана I, взлетевшую на четырех минаретах на холм над Золотым Рогом. Большинство стамбульских мечетей по вечерам освещено белым светом. Поэтому даже в будние вечера Стамбул не дает забыть о своей восточной мистической сущности.
ТУРЕЦКИЕ БАНИ

Турецкая баня и турецкий массаж - обязательные туристские аттракционы. Главное в турецкой парилке - это большой горячий камень, обычно - цельномраморная плита. На камень надо постепенно наползать сначала животом, а потом спиной - и потеть. Стены и пол в парилке тоже горячие, а по углам расположены краны с раковинами. После споласкивания камня водой образуется туман, с большой натяжкой роднящий хамам с русской баней. По сути это - влажная римская баня без бассейна. Почти обязательное правило в хамаме - не мыться самому, а также позволить массажисту зверски помять себя. Турецкий массаж жесток, точечные воздействия не признаются, без всяких нежностей массажист мнет члены. Кажется, еще чуть, и тело превратится в набитый фаршем кожаный чехол. Но по окончании процедуры боль быстро проходит, и начинает ощущаться отсутствие застарелых остеохондрозов и невралгий. Самая известная баня - Джагалоглу, ей триста лет, в ней снимали "Индиану Джонса", и она в наибольшей степени приспособлена для туристов. Здесь вдоволь колорита, но и с гигиеной тоже все в порядке. Хозяева бани утверждают, что в ней в соответствующие времена парились английский король Эдуард, кайзер Вильгельм, Ференц Лист и даже Флоренс Найтингейл, в бане есть два отделения, женское и мужское. Хамам Джагалоглу открыта ежедневно для мужчин с 7 до 22, для женщин - с 8 до 20. Простое посещение бани обойдется в $15, полный набор процедур - от мытья банщиком до турецкого массажа - $35.
ДВОРЕЦ ТОПКАПЫ

Дворцовый гарем огромен - 15000 квадратных метров. Охраняли гарем от 200 до 300 чернокожих евнухов, и следили они за несколькими сотнями женщин, а из полноценных мужчин входить в гарем дозволялось только султану. Уже давно спорят зачем все-таки надо было содержать столько евнухов? Ведь по внешней стене дворца и так стояла охрана - посторонний не войдет, а свой разве посмеет? Известно, однако, что евнухи турецких султанов - это не евнухи китайских мандаринов. У тех проводили полную кастрацию, а стать турецким евнухом считалось почетно - исключалась только функция оплодотворения, а к сексу такой прооперированный мужик был даже более способен, чем обычный. Вот и написано уже несколько книг, где доказывается, что султан не был ревнивцем, а турецкие евнухи всеми способами успокаивали женщин гарема - ведь султан за ночь мог посетить лишь одну и никаких групповух не устраивал. Если б не евнухи, Топкапы превратился бы в лесбийские заповедник! Как бы то ни было, но опера Моцарта "Похищение из сераля" часто исполняется в дворцовом гареме. В июне этого года телевизионщики из ВВС сняли в натуральных декорациях музыкальный фильм "Моцарт в Турции". Моцарт в Турции никогда не был, но Турцию прочувствовал тонко, его "Турецкий марш" считается первым европейским музыкальным произведением нового времени, исполненным с использованием ударных инструментов. Дело в том что мода на военных барабанщиков пошла именно из Турции, турецкие военачальники никогда не начинали бите без музыкального сопровождения. В сокровищнице дворца находится одна из сами больших в мире коллекций предметов роскоши. Тут выставлены 4-килограммовый изумруд и знаменитый "Бриллиант ложечника" в 86 каратов, его пытался купить на аукционе Казанова, но не хватило денег - привет Кисы Воробьянинова! Интересны комнаты, где хранятся христианские и м сульманские реликвии - оловянная кастрюля Авраам, чалма святого Иосифа, часть черепа и длань Иоанна Крестителя, ключи и стропила Каабы, оклад Священного коня, волосы Мухаммеда, меч третьего халифа Омана и четвертого халифа Али. Осмотр ведется под молитву музейного служителя-ходжи, он молится за всех мертвых, которые принесли славу и благоденствие Турции. Интересное дело, билет во дворец стоит $5, но чтобы войти в гарем, по-восточному внезапно требуют доплатить еще $2,5. Музей открыт с 9 до 17, а гарем почему-то с 11. Кроме вторника.
ОБЗОРНАЯ БАШНЯ ГАЛАТА
Бывшая тюрьма ныне преобразована в ресторан с кольцевым балконом на вершине. С башни открывается панорамный вид на Стамбул, на выгнувшуюся ятаганом бухту Золотой Рог, на Босфор Интереснее всего подняться на Галата в сумерках, тогда можно полюбоваться закатом и вдобавок увидеть, как засветятся мечети. Посещение башни лучше оставить на второй день, когда турист уже познакомился с достопримечательностями - так интереснее разглядывать Стамбул.
БЕЛАЯ ГВАРДИЯ
После Гражданской войны русские эмигранты на несколько лет осели в Константинополе на холме Пера. Ныне это - район Бейоглу. Пешеходная улица Пера (ныне - Isticlal, улица Независимости) похожа на Арбат, с той лишь разницей, что по ней изредка проходит старинный трамвай, на запятках у которого висят мальчишки. Когда-то здесь жили богатые греки и останавливались все европейцы, приезжавшие в Константинополь (любителям Агаты Кристи для справки отель Pera Palac сохранился до сих пор). Последние греки уехали отсюда недавно, в 70-х, когда Турция оккупировала Северный Кипр. В районе Бейоглу - множество брошенных, пустых домов, которые нельзя ни отремонтировать, ни снести - частная собственной священна. Isticlal похожа на парижскую, московскую или венскую улицу, здесь много шикарных бутиков, кофеен и кондитерских, есть костел и кирха. А вот следов русской эмиграции почти не осталось. Знаменитая кондитерская Lebon - всего лишь вывеска, эта кондитерская на самом деле была на месте кафе Markiz, от которого в свою очередь осталась лишь старая запыленная вывеска. Где-то поблизости первый русский кинорежиссер Дранков организовал тараканьи бега. Но по-прежнему существует Geek Passaji, в котором русские продавали цветы. В начале 20-х богатые турки подходили к русским барышням и покупали у них букетики фиалок - такова была стыдливая форма проституции. Неподалеку от Isticlal, за башней Галата (район Кагакоу), и ныне находится самая известная в Стамбуле улочка публичных домов. У входа на улочку дежурит полицейский, обрюзгшие дамы в пеньюарах вертятся у витрин. Все публичные дома в Турции содержит дама по фамилии Матильда Манукян. Она занимается благотворительностью, публично выказывает свой патриотизм, но все же многие считают, что армянка мстит за геноцид своего народа - в турецких публичных домах работают только турчанки, а румынские, молдавские и украинские конкурентки пристроены при барах и отелях. Любопытный объект поблизости от улицы публичных домов - чуть ли не самое старое в мире метро, известный среди стамбулыдев Tonnel. При входе в Tonnel, как и положено в метро, покупается жетон, который надо опустить в турникет. Затем пассажиры садятся в обычный метровагон - и едут круто вверх. Однако через пару минут езда заканчивается тупиком: линия как началась, так и кончилась. Странно, но о турецком метро ни слова не говорится ни в воспоминаниях эмигрантов, ни в романах, хотя по тем временам Tonnel был чудом техники.
РЫНКИ

Стамбульские рынки и магазины "русских" районов Аксарай и Лалели - царство челночного бизнеса. Русской речи и вывескам на русском языке здесь никто не удивляется. Мы не советуем что-то специально искать на рынках - чтобы купить здесь что-то путное, надо потратить несколько часов. Оставьте поиски профессионалам, а потом купите вещь в России за ту же цену или даже дешевле - турецкое правительство поддерживает экспортеров, снижает налоги и даже выплачивает дотации. Мы же на отдыхе и потому не будем терять время и утомляться по пустякам. Давайте пройдем по рынкам, чтобы почувствовать Восток, будем смотреть по сторонам и фотографировать. Kapali Card - огромный крытый рынок, Большой базар, он основан еще султаном Мехметом Завоевателем. Египетский рынок - рынок пряностей. А между ними кривые улочки, запах печеной кукурузы или каштанов (смотря по сезону), женщины в чадрах, водоносы, чистильщики обуви, брадобреи - все очень по-турецки, и оттого здесь туристы не прячут фотоаппараты и видеокамеры. Кстати, с чадрами и даже платками на головах у женщин правительство Турции борется беспощадно. В платке нельзя входить, например, на территорию университета и в парламент. Недавно одна из депутаток от исламистской партии ослушалась и вошла, и дело кончилось дракой. Мало того, на даму быстро собрали компромат и выяснили, что она тайно является гражданкой США. Президент Эджевит немедленно лишил обладательницу платка гражданства Турции, а парламент проголосовал за лишение депутатского мандата.
РЕСТОРАНЫ
Древности, дворцы, экзотические виды - как хорошо! Но турист на отдыхе любит вкусно поесть. В Турции с этим проблем нет и быть не может. Первое достоинство турецкой кухни - добросовестная работа, чистота и использование только свежих продуктов. Это характерно и для шикарных прибрежных ресторанов, и для придорожного локанталара. Турки чистоплотны и честны в приготовлении еды, поэтому меры предосторожности для туристов минимальны. Качество еды везде одинаковое, а цены назначаются в зависимости от наличия стен, вида из окна и уровня обслуживания. Единственное правило, которое надо соблюдать в Стамбуле, - заказывать исключительно блюда турецкой кухни, европейские дороже, да и готовить их здесь не умеют. Турецкие закуски обильны и разнообразны: салаты всех видов, овечий сыр, зеленая и белая фасоль, маслины двадцати сортов, фаршированные помидоры и перец (фаршированные овощи называются "долма") - все это в разных сочетаниях подается на больших тарелках; тарелки с закусками общие, еду из них перекладывать не принято, каждый объедает блюдо со своей стороны. Типичные вторые блюда - всевозможные кефте (котлеты) и кебабы (шашлыки) и донеры (кебабы в кавказском понимании). Готовятся они из баранины и реже из говядины. Супы ("чорба") бывают чечевичные, из бараньей требухи, куриные с лапшой и на основе кефира. Обычно подготовленные к жарке куриные тушки, донеры, кебабы выставлены на обозрение посетителя в стеклянных холодильниках, поэтому заказывать в турецком ресторане очень просто. На десерт турки едят фрукты - абрикосы, сливы, персики, арбузы, дыни, инжир, апельсины, груши, ежевику, тутовые ягоды, мушмулу. Из сладких блюд самые вкусные - косхалва, лукум с фисташками (чем мельче кубики, тем лукум качественнее) и пахлава. Турки любят пить горьковатый турецкий чай, который растет на плантациях по побережью. Черного моря, а также местное пиво. Пиво легкое, но приятное. Из алкогольных напитков турки предпочитают ракы - виноградную анисовую водку. "Ракы" не закусывают, а запивают или разбавляют водой в пропорции 50 на 50. Разбавленная водка мутнеет наподобие мелового раствора, и тогда ее называют "львиное молоко". Турецкие вина ничего особенного из себя не представляют. Деревенские молодые вина различаются по простому красное, белое и розовое (в Турции это, как правило, простая смесь красного и белого). Из великого множества стамбульских ресторанов упомя нем несколько известных мест. Напротив Голубой мечети находится Pudding Shop. Этот ресторанчик в европейском стиле достоин упоминания по тому что в 60-е годы служил местом остановки для хиппи (знаменитый hippie trail). Здесь можно удобно, быстро и де шево перекусить после посещения Айя Софии (обед с раз ливным пивом - до $10). А вот отправляясь в прибрежный район Кункапы, надо не торопиться, оставить свободным хотя бы полвечера. Примыкающий к рыбному рынку Кункапы - царство рыбных ресторанов Такого, пожалуй, нет больше нигде в мире. На одной улицей паре переулков впритык друг к другу расположены де сятки ресторанов. Вечером улица ярко освещена, здесь всегда шумно. Шумят многочисленные посетители, зазывалы на не скольких языках зовут к себе и перечисляют названия рыб "Барабульку хочешь? Заходи, есть барабулька, калкан, скор пион, баламут, лобстер, осьминог!" - "А катран есть?" - "Все есть!". И действительно, меню обширное. В каждом ресторане - музыканты, певцы, но ощущения лишней толкотни и базара нет. Официанты услужливы, повара быстры. Хороший ужин с вином или пивом - $25-30 на человека (рыба в Турции в 2-2,5 раза дороже баранины). И трапеза того стоит не султан ский дворец Топкапы, а рыбные рестораны Кункапы - вот на стоящий, живой Стамбул, щедрый и праздничный. Другой вечер можно интересно провести в ресторане "Ориент" в отеле "Президент" - это тоже в районе Аксарай. Здесь туристам предлагают фиксированное меню и фольклорную программу с музыкой, танцами живота, показом национальных костюмов и космополитичными развлекалками на закуску. Ресторан "Ориент" открыт ежедневно. Стоимость программы - $35. Любителям крутого гурманства посоветуем зайти в ишкембе-салон Lale - "Тюльпан" на Isticlal. Ишкембе - это варево из мелкорубленой бараньей требухи. Для любителя ишкембе (а таких среди турок большинство) запах блюда напоминает весеннее благоухание тюльпана, оттого и название рекомендованного салона. На самом деле ишкембе пахнет совсем не тюльпаном, а, скажем честно, противно пахнет. Если турист сумеет съесть чашку ишкембе с чесночным соусом, острым перцем и турецким хлебом - он может смело считать, что в большой степени стал турком. Особняком среди ресторанчиков стоят заведения, где почтенные турки курят наргиле и пьют чай (сервис-кальян - около $2 плюс чай-кофе). Турки любят классический кальян - табак, кусочек свежезапаленного древесного угля, вода без всяких добавок и неспешный разговор с перерывами на затяжку. Лучшее из таких наргиле-кафе - в бывшем медресе Чолулу Али-паша, на полдороге между Голубой мечетью и Большим базаром. В ресторанах редко, но обманывают. Сел за столик - надо требовать меню и подсчитать примерные траты. В некоторых местах говорят, что меню нет, из такого места лучше уйти.
МАГАЗИНЫ
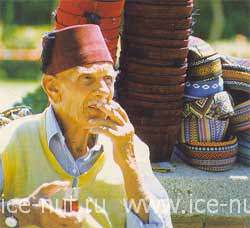
В шикарных стамбульских магазинах цены ниже, чем в соответствующих московских, а товара в десятки раз больше. Если возникнет желание истратить деньги, рекомендуем посетить огромные, похожие на торговый комплекс на Охотном ряду, магазины "Акмеркес" в районе Levent и Gallery по дороге в аэропорт.
ЕВРОПА-АЗИЯ
Для ритуального переезда из Европы в Азию и обратно воспользуемся теплоходами, отходящими от пристани поблизости от железнодорожного вокзала Теплоходы отходят часто, билет стоит меньше $0,5. Пристань - одну из азиатских деревень - можно выбрать по карте. Переезд через Босфор запоминается надолго. Движение плотное, буксиры, сухогрузы, океанские теплоходы, рыбацкие лодки движутся хаотично, наперерез друг другу, резко отворачивают, опасно прижимаются к берегу. Все торопятся успеть сделать дела, ведь ходить судам по Босфору разрешается только в светлое время суток.
ОТДЫХ НА ВОДЕ
В окрестностях Стамбула, примерно за 40-50 километров от города, есть чистые, благоустроенные пляжи. Лучшим местом отдыха считаются Принцевы острова. В холодное время года удачный вариант - отправиться на быстроходном катере в Ялову, город на берегу Измитского залива, известный термальными водами. На территории "Тюрбан отеля" расположены источники, известные еще с римских времен. Ариф АЛИЕВ Источник: http://www.ice-nut.ru/turkey/turkey051.htm |




