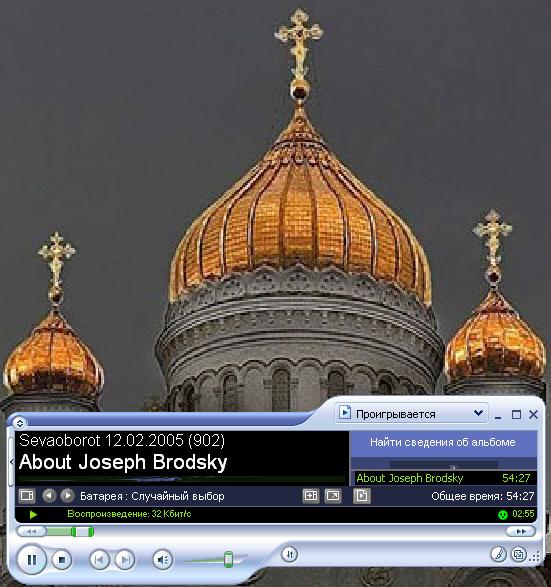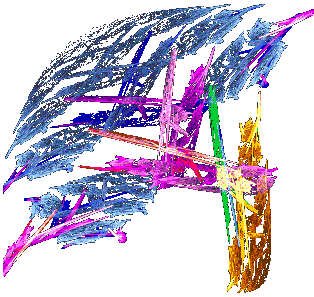|
Специальные ежемесячные бизнес-журналы для руководителей крупных предприятий России и СНГ
|
 |
Окна из алюминия в Севастополе — это новые возможности при остеклении больших площадей и сложных форм. Читайте отзывы. Так же рекомендуем завод Горницу.
Страницы сайта поэта Иосифа Бродского (1940-1996)
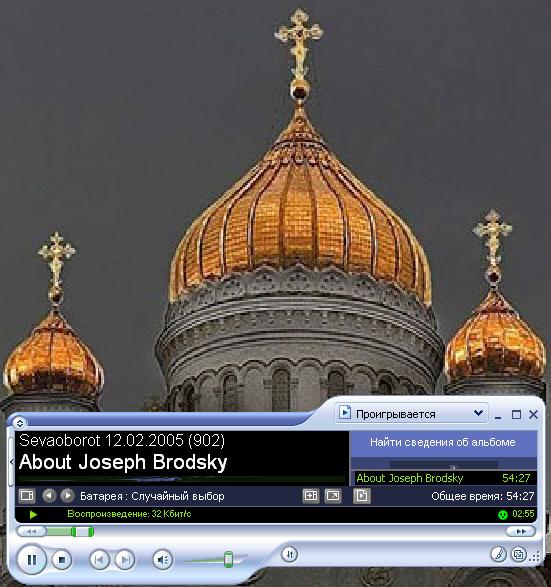
В Интернете можно скачать mp3 файл (12,5 МБ) -
магнитофонную запись беседы об Иосифе Бродском В.Полухиной с С.Новгородским (12.02.2005).
Замечателен молодой голос Бродского, читающего свои стихи (укороченный вариант!) на смерть Элиотта "Он умер в январе, в начале года..."
Для меня было неожиданным (19.01.2008) услышать, что сам Бродский педалировал те строки этого стихотворения,
которые я в 1996 г. предпослал восьмой четке некролога о нем, но в дикой спешке физически не успел напечатать,
о чем в ответе на прямой вопрос читательницы 20 августа 2006 указал в послесловии к этому некрологу.
Кстати, - на любителя - скачать неведомые ранее песни на стихи Бродского можно здесь.
ЛИТЕРАТУРА
Бродский 1987: Бродский И. Настигнуть утраченное время // Время и мы. 1987. № 97.
Бродский 1990: Brodsky Joseph. The Poet, the loved one and the Muse // Times Literary Supplement. October 26 - November 1, 1990.
Бродский 1992-1995: Бродский Иосиф. Соч.: В 4 т. СПб., 1992-1995.
Бродский 1998: Бродский И. Письмо Горацию. М., 1998.
Бродский 1997: Бродский о Цветаевой: Интервью, эссе. М., 1997.
Рильке: Рильке Р.-М. Лирика / Пер. Т. Сильман. М.; Л., 1965.
Беглов: Беглов А. Л. И. Бродский: монотония поэтической речи (на материале 4-стопного ямба) // Philologica. 1996, Vol. 3. № 5/7.
Волков: Волков С. Диалоги с Иосифом Бродским. М., 2000.
Гаспаров: Гаспаров М. Л. Очерк истории русского стиха. Метрика. Ритмика. Рифма. Строфика. М., 2000.
Гордин: Гордин Я. Странник // Russian Literature. 1995. Vol. 37. № 2/3.
Лосев: Лосев Л. Первый лирический цикл Бродского // Часть речи. Альманах. № 2/3.
Полухина: Полухина В. Бродский глазами современников. СПб., 1997.
Тарановский: Тарановский К. Ф. Стихосложение Осипа Мандельштама (с 1908 по 1925 г.) // International Journal of Slavic Linguistics and Poetics. 1962. Vol. 5.
Янечек: Янечек Дж. "Стихи на смерть Т. С. Элиота" (1965) // Как работает стихотворение Бродского. Из исследований славистов на Западе. Сб. ст. М., 2002.
Bethea: Bethea David. Joseph Brodsky and the Creation of Exile. Princeton University Press, 1994.
MacFadyen: MacFadyen David. Joseph Brodsky and the Soviet Muse. McGill-Queen's University Press. Montreal and Kingston - London -Ithaca, 2000.
Polukhina: Polukhina Valentina. Joseph Brodsky: a Poet for Our Time. Cambridge, 1989.
-
ПРИМЕЧАНИЯ
Виктор Куллэ
ИОСИФ БРОДСКИЙ: БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЗОР
Цель настоящего обзора – оказать предварительную помощь волонтерам, рискнувшим пополнить когорту исследователей творчества Бродского. Когорты, к которой принадлежит автор этих строк. Количество написанного Бродским огромно, а написанного о нем – и вовсе не поддается исчислению. Полная библиография текстов Бродского, как и работ, ему посвященных, представляется делом заведомо безнадежным, едва ли не титаническим. Американский славист Томас Бигелоу занимается ее составлением несколько лет и труд его далек от завершения [7]. Поскольку библиография Бигелоу не опубликована, отсылаем желающих к библиографиям, наиболее полным на настоящее время [1-3]. Библиографии интервью Бродского [5] и его переводов [6] опубликованы в специальном выпуске журнала "Russian Literature". Отечественные публикации последнего десятилетия, в силу их сравнительной доступности для исследователя, выходят, за редчайшими исключениями, за пределы настоящего обзора. Отчасти они освещены в издании "Литература русского зарубежья возвращается на Родину" [4].
Библиографию работ о творчестве Бродского открывают критические отзывы на выход сборника "Стихотворения и поэмы" (ILLA, 1965). Авторы рецензий – как правило, представители "первой волны" эмиграции – возводят литературную генеалогию начинающего Бродского к поэтам "серебряного века", делая упор как на тогдашние обстоятельства его биографии, так и на чуждость его советской поэзии [65]. Наиболее прозорливые из рецензентов уже тогда отмечали ряд черт, характерных для последующей поэтики Бродского. Так, Юрий Иваск в своем анализе "Большой элегии Джону Донну" первым обратил внимание на попытку органического соединения достоинств русской и английской поэтической речи [39-40], а Борис Филиппов сделал вывод о "метафизической непредрешенности" поэзии Бродского [68], вылившейся впоследствии в его упрямый спор с самой идеей конечности – вплоть до неприятия идеи Рая и Ада как "метафизического тупика".
С той поры список статей и исследований, посвященных поэзии Бродского, перевалил за тысячу наименований. Работы эти могут быть разделены на несколько групп. Первую составляют статьи биографического и мемуарного характера. Имеются в виду как материалы знаменитого "процесса", так и многочисленные вариации на тему поэта-изгнанника, увенчанного Нобелевской премией. Из наиболее добросовестных публикаций этого круга выделяются работы Якова Гордина [35], Ефима Эткинда [10] и Николая Якимчука [14].
Вторую группу составляют статьи, авторы которых стремятся дать "итоговую" оценку творчества Бродского, либо определить его место в литературной иерархии. По меткому определению Льва Лосева, их интересует не собственно поэзия, а "миф о Бродском, Поэте Милостью Божьей" [51]. В лучших из этих работ, однако, не только содержится ряд ценных наблюдений о соотнесенности поэтики Бродского с определенной традицией, но и воссоздается широкая панорама развития русской поэзии второй половины XX века и, в частности, такого ее феномена, как "параллельная культура". В качестве примера можно привести статьи Михаила Айзенберга [20-21] и Виктора Кривулина [41-43]. К этой же группе примыкают и работы, авторы которых настроены не только критически, но и откровенно агрессивно. Как правило, это связано с "невписываемостью" поэзии и самой фигуры Бродского в привычный литературный (или идеологический) контекст. В ряде случаев авторы заходят а своем мифотворчестве довольно далеко. Так, в цикле статей Зеева Бар-Селлы (Владимира Назарова) эволюция поэта прослеживается как путь измены собственному "еврейству", гибельный для творчества Бродского [23-26].
И, наконец, сравнительно немногочисленный ряд работ, посвященных, собственно, поэтике. Михаил Крепс, автор первой монографии о поэте [8], содержащей анализ отдельных произведений Бродского вне общего контекста его творчества, одновременно, включает их в широкий контекст русской классической и европейской поэзии. Валентина Полухина в фундаментальной англоязычной монографии [11] стремится показать, что "лингвистическая направленность поэзии Бродского не уступает философской". Скрупулезный филологический анализ системы тропов, словаря, синтаксиса является здесь ключом к пониманию мироощущения поэта. Автор подробно рассматривает метафоры времени у Бродского и приходит к выводу, что основным приемом поэта все чаще становится "отстраненная метонимия".
Составленный В.Полухиной и Ю.Пярли "Словарь тропов Бродского" [18] является, по мнению Ю.М.Лотмана, "словарем принципиально нового типа: в нем объединяются данные, традиционно относимые лишь к сфере языкознания, с теми, которые считаются специфически литературоведческими". Словарь является промежуточным итогом работы, начатой более десяти лет назад изучением грамматической структуры метафоры в диссертации д-ра Полухиной [96], работы, которая, по сообщению авторов, будет продолжена. Завершающий книгу частотный словарь сборника "Часть речи", предлагая возможность сопоставления со словарем тропов, не только является незаменимым подспорьем грядущим "бродсковедам", но и вносит вклад в спорный по настоящее время вопрос о самой природе тропа, его функционировании в рамках текста.
"Судьбе поэта" в изгнании посвящена монография Дэвида Бетеа [16]. В русском переводе опубликована глава из нее, посвященная противоборству иудейской и христианской парадигм в судьбе и творчестве Мандельштама, Пастернака и Бродского [28]. В неопубликованной монографии Сергея Кузнецова [19] проведен мотивный анализ семантической структуры текстов, группирующихся вокруг сборника "Урания" (Ardis, 1987) и пьесы "Мрамор" (Ardis, 1984), тщательно проинвентаризованы мотивные пучки, связанные в поэтике Бродского с категориями пространства, времени, поэтического творчества, смерти; проведено сопоставление мотивов пустоты и молчания у Мандельштама и Бродского.
К монографическим исследованиям примыкают статьи сборников "Поэтика Бродского" [9], "Brodsky's Poetics and Aesthetics" [12], специального выпуска "Joseph Brodsky" журнала "Russian Literature" [17]. Различных аспектов его поэтики касаются и многие из участников книги В.Полухиной "Brodsky throught the Eyes of his Contemporaries" [15], составленной из интервью с поэтами – друзьями Бродского и исследователями его творчества. Следует упомянуть также отечественный юбилейный сборник "Иосиф Бродский размером подлинника" [13].
Статьи, опубликованные в сборниках и в периодике, также распадаются на несколько групп. Из обобщающих работ стиховедческого характера следует упомянуть исследование М.Л.Гаспарова о рифме Бродского [34], работы Барри Шерра [69, 87], Дж.Смита [88] и М.Ю.Лотмана [55] о строфике и метрике поэта. Соотношению грамматики и семантики у Бродского посвящена работа В.Полухиной [59].
Значительный раздел составляют работы, содержащие анализ отдельных произведений Бродского [29, 31-33, 37, 45, 49-50, 64, 67, 70-72, 75-77, 90-92, 97], либо его генеалогических связей с конкретными авторами [27-28, 38, 40, 46, 52, 60, 66, 70-74, 76, 83, 94]. Жанровой полифонии Бродского, его попыткам создать новые "невозможные" жанры, либо кардинально обновить старые, посвящены статьи [30, 36, 44, 46, 63, 86, 88].
Магистральные темы поэзии Бродского – свобода и вера, Империя и изгнание, воздействие времени на человека, противостояние времени и языка, – разрабатываются в статьях таких поэтов, переводчиков и исследователей творчества Бродского, как Ст.Баранчак [22], Дж.Кляйн [78], Л.Лосев [47-53, 79-81], Ю.М. и М.Ю. Лотманы [54], Чеслав Милош [56], А.Найман [57-58], Ж.Нива [82], И.Пильщиков [84], В.Полухина [61-62, 85], Дерек Уолкотт [93]. Каждая из этих статей не только предлагает тонкий анализ избранной темы, но и намечает направления, еще ждущие своих исследователей.
Завершая этот краткий обзор, хочу обратиться с просьбой ко всем, кому дорого творчество Бродского. Каждый добросовестный исследователь заинтересован в скорейшем и, по возможности, полном издании его библиографии. Это необходимо и для нормальной литературоведческой работы, и для подготовки комментированного "Собрания Сочинений", которое будет базироваться на четырехтомнике, изданном "Пушкинским фондом" (СПб). Проследить за всеми появляющимися в печати публикациями чрезвычайно сложно. Если вы хотите помочь в этой работе, высылайте свои материалы Томасу Бигелоу, который занимается этой работой в Америке и автору этих строк, занимающемуся тем же дома. Наши адреса:
- Thomas Bigelow. PO Box 520. Cooper Station. New York, NY 10003. USA. Fax: 212-254-3154. E-mail: .
- Россия. 198260. Санкт-Петербург, ул. Стойкости, д. 20, кв. 93, Виктор Куллэ. Тел. (812) 155-06-92.
ЛИТЕРАТУРА:
I. БИБЛИОГРАФИИ
1. Kline G. A Bibliography of the Published Works of Iosif Aleksandrovich Brodsky // Ten Bibliographies of Twentieth Century Russian Literature. Ann Arbor: Ardis, 1977. P. 159-175.
2. Stevanovic B., Wertsman V. Brodskii, Iosif Aleksandrovich // Free Voices in Russian Literature, 1950s-1980s. A Bio-Bibliographical Guide. New York: Russica, 1987. P. 70-73.
3. Polukhina V. Select bibliography // Polukhina V. Joseph Brodsky: A Poet for Our Time. Cambridge: Cambridge University Press, 1989. P. 304-314.
4. Данченко В.Т. и др. Бродский Иосиф Александрович // Литература русского зарубежья возвращается на Родину. Выборочный указатель публикаций 1986-1990. Вып. I. Часть 1. М.: Рудомино, 1993. С. 81-90.
5. Polukhina V. Bibliography of Joseph Brodsky's interviews // 'Joseph Brodsky'. Special Issue / Ed. by V.Polukhina // Russian Literature. North-Holland, 1995. Vol. XXXVII-II/III. C. 417-425.
6. Куллэ В. Библиография переводов Иосифа Бродского // 'Joseph Brodsky'. Ibid. C. 427-440.
7. Bigelow Th. Joseph Brodsky. A Diskriptive Bibliography. 1962-1996. [A Work in Progress].
II. МОНОГРАФИИ И СБОРНИКИ
8. Крепс М. О поэзии Иосифа Бродского. Ann Arbor: Ardis, 1984.
9. Поэтика Бродского / Сб. статей под ред. проф. Л.Лосева. Tenafly, N.J.: Hermitage, 1986.
10. Эткинд Е. Процесс Иосифа Бродского. London: OPI, 1988.
11. Polukhina V. Joseph Brodsky: A Poet for Our Time. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.
12. Brodsky's Poetics and Aesthetics / Eds. by L.Loseff & V.Polukhina. London: The Macmillan Press, 1990.
13. Иосиф Бродский размером подлинника. [Сборник, посвященный 50-летию И.Бродского] / Сост. Г.Ф.Комаров. Ленинград-Таллинн, 1990.
14. Якимчук Н. Как судили поэта. Л-д: Аквилон, 1990.
15. Polukhina V. Brodsky through the Eyes of his Contemporaries. Basingstoke/New York: The Macmillan Press, 1992.
16. Bethea D. Joseph Brodsky and the Creation of Exile. Princeton: Princeton University Press, 1994.
17. 'Joseph Brodsky'. Special Issue / Ed. by V.Polukhina // Russian Literature. North-Holland, 1995. Vol. XXXVII-II/III.
18. Полухина В., Пярли Ю. Словарь тропов Бродского (на материале сборника "Часть речи"). Тарту, 1995.
19. Кузнецов С. Иосиф Бродский: попытка анализа. [Неопубликовано].
III. СТАТЬИ И ДОКЛАДЫ
20. Айзенберг М. Некоторые другие... (Вариант хроники: первая версия) // Театр. 1991. N 4. С. 98-118.
21. Айзенберг М. Одиссея стихосложения // Арион. 1994. N 3. С. 22-27.
22. Баранчак Ст. Переводя Бродского // Поэтика Бродского. Ibid. С. 239-251.
23. Бар-Селла З. Толкования на... // Двадцать два. 1982. N 23. С. 214-233.
24. Бар-Селла З. "Все цветы родства"// Двадцать два. 1984. N 37. С. 192-208.
25. Бар-Селла З. Страх и трепет // Двадцать два. 1985. N 41. С. 202-213.
26. Бар-Селла З. Поэзия и правда // Двадцать два, 1988. N 59. С. 156-168.
27. Бетеа Д. Изгнание как уход в кокон: Образ бабочки у Набокова и Бродского // Русская литература. 1991. N 3. С. 167-175.
28. Бетеа Д. Мандельштам, Пастернак, Бродский: иудаизм, христианство и созидание модернистской поэтики // Русская литература XX века. Исследования американских ученых. СПб: Петро-РИФ, 1993. С. 362-399.
29. Вайль П., Генис А. От мира – к Риму // Поэтика Бродского. Ibid. С. 198-206.
30. Вайль П. Пространство как метафора времени: стихи Иосифа Бродского в жанре путешествия // 'Joseph Brodsky'. Ibid. C. 405-416.
31. Верхейл К. 'Эней и Дидона' Иосифа Бродского // Поэтика Бродского. Ibid. С. 121-131.
32. Верхейл К. Кальвинизм, поэзия и живопись. Об одном стихотворении И.Бродского // Звезда. 1991. N 8. С. 195-198.
33. Венцлова Т. И.А.Бродский. 'Литовский дивертисмент' // Венцлова Т. Неустойчивое равновесие: восемь русских поэтических текстов. New Haven: YCIAS, 1986. С. 165-178.
34. Гаспаров М.Л. Рифма Бродского // Гаспаров М.Л. Избранные статьи. М.: Новое литературное обозрение, 1995. С.83-92.
35. Гордин Я. Дело Бродского // Нева. 1989. N 2. С. 134-166.
36. Гордин Я. Странник // 'Joseph Brodsky'. Ibid. C. 227-245.
37. Жолковский А.К. 'Я вас любил...' Бродского... // Жолковский А.К. 'Блуждающие сны' и другие работы. М.: Наука, 1994. С. 205-224.
38. Иванов Вяч. Вс. О Джоне Донне и Иосифе Бродском // Иностранная литература. 1988. N 9. С. 180-181.
39. Иваск Ю. И.Бродский. 'Стихотворения и поэмы' // Новый журнал. Нью-Йорк, 1965. N 70. С. 297-299.
40. Иваск Ю. Литературные заметки: Бродский, Донн и современная поэзия // Мосты. Нью-Йорк, 1966. N 12. С. 161-171.
41. Каломиров А. [В.Кривулин]. Иосиф Бродский (место) // Поэтика Бродского. Ibid. С. 219-229.
42. Каломиров А. Двадцать лет новейшей русской поэзии // Русская мысль. 1985. 27 декабря. / Лит. приложение N 2. С. VI-VIII.
43. Кривулин В. Слово о нобелитете Иосифа Бродского // Русская мысль. 1988. 11 ноября. / Лит. приложение N 7. С. II-III.
44. Кривулин В. Литературные портреты в эссеистике Иосифа Бродского // 'Joseph Brodsky'. Ibid. С. 257-266.
45. Куллэ В. Структура авторского 'Я' в стихотворении Бродского 'Ниоткуда с любовью' // Новый журнал. 1990. N 180. С. 159-172.
46. Куллэ В. 'Там, где они кончили, ты начинаешь...' (о переводах И.Бродского) // 'Joseph Brodsky'. Ibid. С. 267-288.
47. Лосев А. [А.Лифшиц]. Ниоткуда с любовью... Заметки о стихах Иосифа Бродского // Континент. 1977. N 14. С. 307-331.
48. Лосев А. Английский Бродский // Часть речи. Нью-Йорк, 1980. Альм. N 1. С. 53-60.
49. Лосев А. Первый лирический цикл Иосифа Бродского // Часть речи. 1981/82. Альм. N 2/3. С. 63-68.
50. Лосев Л. [А.Лифшиц]. Иронический монумент: пьеса Иосифа Бродского 'Мрамор' // Русская мысль. 1984. 14 июня. С. 10.
51. Лосев Л. Бродский: от мифа к поэту. Предисловие // Поэтика Бродского. Ibid. C. 7-15.
52. Лосев Л. Чеховский лиризм у Бродского // Поэтика Бродского. Ibid. С. 185-197.
53. Лосев Л. Иосиф Бродский: эротика // 'Joseph Brodsky'. Ibid. С. 289-301.
54. Лотман Ю.М., Лотман М.Ю. Между вещью и пустотой (Из наблюдений над поэтикой сборника Иосифа Бродского 'Урания') // Лотман Ю.М. Избранные статьи [т.3]. Таллинн: Александра, 1993. С. 294-307.
55. Лотман М.Ю. Гиперстрофика Бродского // 'Joseph Brodsky'. Ibid. С. 303-332.
56. Милош Ч. Борьба с удушьем. // Часть речи. 1983/84. Альм. N 4/5. С. 169-180.
57. Н.Н. [А.Найман]. Заметки для памяти // Бродский И. Остановка в пустыне. Стихотворения и поэмы. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1970. С. 7-15.
58. Найман А. 'Величие поэтического замысла' // Русская мысль. 1990. 25 мая. / Специальное приложение: Иосиф Бродский и его современники. К пятидесятилетию поэта. C. II-III.
59. Полухина В. Грамматика метафоры и художественный смысл // Поэтика Бродского. Ibid. С. 63-96.
60. Полухина В. Ахматова и Бродский (к проблеме притяжений и отталкиваний) // Ахматовский сборник. Вып. I. Париж: Институт славяноведения, 1989. С. 143-153.
61. Полухина В. Поэтический автопортрет Бродского // Russian Literature. 1992. Vol. XXXI-III. С. 375-392.
62. Полухина В. Ландшафт лирической личности в поэзии Иосифа Бродского // Literary Tradition and Practice in Russian Culture. Amsterdam: Rodopi, 1993. P. 229-245.
63. Полухина В. Жанровая клавиатура Бродского // 'Joseph Brodsky'. Ibid. C. 145-155.
64. Проффер К. Остановка в сумасшедшем доме: поэма Бродского 'Горбунов и Горчаков' // Поэтика Бродского. Ibid. С. 132-140.
65. Райс Эм. Ленинградский Гамлет // Грани. 1965. N 59. С. 168-172.
66. Д.С. [В.Сайтанов]. Пушкин и Бродский // Поэтика Бродского. Ibid. С. 207-218.
67. Смит Дж. Версификация в стихотворении И.Бродского 'Келломяки' // Поэтика Бродского. Ibid. С. 141-159.
68. Филиппов Б.А. Бродский И. 'Стихотворения и поэмы' [Рецензия] // Русская мысль. 1965. 3 апреля.
69. Шерр Б. Строфика Бродского // Поэтика Бродского. Ibid. С. 97-120.
70. Янечек Дж. Бродский читает 'Стихи на смерть Т.С.Элиота' // Поэтика Бродского. Ibid. С. 172-184.
71. Bethea D. Exile, Elegy, and Auden in Brodsky's 'Verses on the Death of T.S.Eliot' // PMLA. Vol. 107. March 1992. P. 232-245.
72. Bethea D. Joseph Brodsky as a Russian Metaphysical: A Reading of 'Bol'shaia elegiia Dzhonu Donnu' // Canadian-American Slavic
Studies. 1993. Vol. 27. N 1-4. P. 69-89.
73. Bethea D. Brodsky's and Nabokov's Bilingualism(s): Translation, American Poetry and 'Muttersprache' // 'Joseph Brodsky'. Ibid. C. 157-184.
74. Burnett L. The Complicity of the Real: Affinities in the Poetics of Brodsky and Mandelstam // Brodsky's Poetics and Aesthetics. Ibid. P. 12-33.
75. France P. Notes on the Sonnets to Mary Queen of Scots // Brodsky's Poetics and Aesthetics. Ibid. P. 98-123.
76. Givens J. The Anxiety of a Dedication: Joseph Brodsky's 'Kvintet/Sextet' and Mark Strand // 'Joseph Brodsky'. Ibid. C. 203-226.
77. Kline G. On Brodsky's 'Great Elegy to John Donne' // Russian Review. 1965. N 24. P. 341-353.
78. Kline G. Variations on the Theme of Exile // Brodsky's Poetics and Aesthetics. Ibid. P. 56-88.
79. Loseff L. Iosif Brodskii's Poetics of Faith // Aspects of Modern Russian and Czech Literature. Columbus: Slavica Publishers, 1989. P. 188-201.
80. Loseff L. Poetics / Politics // Brodsky's Poetics and Aesthetics. Ibid. P. 34-55.
81. Loseff L. Home and Abroad in the Works of Brodskii // Under Eastern Eyes. The West as Reflected in Recent Russian Emigre Writing. London: The Macmillan Press, 1991. P. 25-41.
82. Nivat G. The Ironic Journey into Antiquity // Brodsky's Poetics and Aesthetics. Ibid. P. 89-97.
83. Pilschikov I. Brodsky and Baratynsky // Literary Tradition and Practice in Russian Culture. Amsterdam: Rodopi, 1993.
84. Pilshchikov I. Coitus as a Cross-Genre Motif in Brodsky's Poetry // 'Joseph Brodsky'. Ibid. C. 339-350.
85. Polukhina V. The Self in Exile // Writing in Exile. Renaissance and Modern Studies. 1991. Vol. 34. University of Nottingham. P. 9-18.
86. Polukhina V. The Self in Brodsky's Interviews // 'Joseph Brodsky'. Special Issue. C. 351-363.
87. Scherr B. Beginning at the End: Rhyme and Enjambment in Brodsky's Poetry // Brodsky's Poetics and Aesthetics. Ibid. P. 180-193.
88. Scherr B. Two Versions of Pastoral: Brodsky's Eclogues // 'Joseph Brodsky'. Ibid. C. 365-375.
89. Smith G. The Metrical Repertiore of Shorter Poems by Russian Emigres 1971-1980 // Canadian Slavonic Papers. Vol. 28. N 4. P. 365-399.
90. Smith G. 'Polden' v komnate' // Brodsky's Poetics and Aesthetics. Ibid. P. 124-134.
91. Smith G. England in Russian Emigre Poetry: Iosif Brodskii's 'V Anglii' // Under Eastern Eyes. Ibid. P. 17-24.
92. Venclova T. A Journey from Petersburg to Istanbul // Brodsky's Poetics and Aesthetics. P. 135-149.
93. Walcott D. Magic Industry [A review of Brodsky's 'To Urania'] // The New York Review. 1988. November 24. P. 35-39.
IV. ДИССЕРТАЦИИ
94. Кnox J. Iosif Brodskij's Affinity with Osip Mandel'stam: Kultural Links with the Past. Ph.D., University of Texas at Austin, 1978.
95. Steckler I. The Poetic World and the Sacred World: Biblical Motifs in the Poetry of Joseph Brodsky. Ph.D., Bryn Mawr College, 1982.
96. Polukhina V. Joseph Brodsky: A Study of Metaphor. Ph.D., Keele University, 1985.
97. Innis J. Iosif Brodskij's 'Rimskie elegii': A Critical Analysis. Ph.D., Indiana University, 1989.
98. Margolis C. Joseph Brodsky's Poetic Images of Vulnerability, Silence and Chaos. M.A., Columbia, 1989.
99. Spech A. The Poet as Traveller: Joseph Brodsky's Mexican and Roman Poems. Ph.D., Bryn Mawr College, 1992.
100. Куллэ В. Поэтическая эволюция Иосифа Бродского в России (1957-1972). К.ф.н., Москва, Литературный институт, 1996.
Опуликовано "Литературное обозрение", № 3, 1996. С. 53 - 56.
Источник: http://www.screen.ru/vadvad/Litoboz/brbibl1.htm
На смерть Т. С. Элиота (1965)
Источник: http://www.vavilon.ru/texts/prim/kruzhkov3-2-10.html
Смерть поэтического диалога
Трижды блажен, кто введет в песнь имя…
Осип Мандельштам
Стихотворение Мандельштама, откуда у меня взят эпиграф, называется “Нашедшему подкову”. Стихотворение вообще очень сложное, полное символов, странно организованное как метрически, так и ритмически. Кажется, оно есть краткий конспект всех тем поэта. Каждая строка открывает перспективу в ту или иную. Вот и эта, выбранная мною, — тоже. Она, как мне думается, адресована всякому переводчику иностранной литературы, а шире — всякому писателю, который (мы помним Жуковского) всегда соперник. У’же — всякому поэту, через перевод или цитату вступающему в диалог с иноязычным автором и культурой его страны.
В нашей современной отечественной поэзии разрушается такая удивительная форма, как поэтический диалог современников, живущих на разных параллелях Земного шара и пишущих на разных языках.
Есть сегодня поэты, занимающиеся строго переводческой деятельностью. То есть работающие не стихотворным именем, но стихотворной подписью. А имя остается за автором. И нет ныне почти ни одного русского поэта, который бы сделал героем своих стихов другого живого иноязычного поэта. При том условии, что они не будут лично знакомы.
У Бродского мы читали про Джона Донна — и в переводах, и в оригинальных стихах (к примеру, “Большая элегия Джону Донну”), понимая, что Донн — это XVI век Англии. Но у Бродского же мы читали про Уистана Хью Одена и Чеслава Милоша. И последний англо-американский метафизик ХХ века, и последний польский диссидент были Бродскому современниками. Хотя и старшими. Важно и то, что оба стали героями не только поэзии, но и эссеистики Бродского. То есть, говоря иными словами, они для Бродского переросли рамки собственной поэзии и стали “фигурами” иностранного языка (Оден — английского, а Милош — польского, соответственно). Стали “частями речи”, если перефразировать самого Бродского. Предельным воплощением собственной поэтической манеры. Когда один поэт-современник в глазах другого поэта-современника дорастает до уровня героя, в мировом сознании начинает существовать межкультурное пространство. В семидесятые и восьмидесятые годы русская и английская поэзия создали подобное пространство через Бродского. Интересно и то, что подобный опыт в истории нашей литературы не был единственным: в десятые годы ХХ века, когда русское поэтическое сознание прошло апробацию символизмом, акмеизмом и футуризмом, английские метафизики у наших поэтов тоже были в чести. Уильям Батлер Йейтс преломился для нас в лирике Андрея Белого через посредство немецкого мистика и теософа начала века Рудольфа Штайнера, с которым Белый был лично знаком (даже участвовал в постройке штайнерианского храма гетеанума в Дорнахе в первой половине 1920-х годов). Йейтс был старшим современником Одена. И они тоже “окликали” друг друга. А Белый не дожил семи лет до рождения Бродского… почти современники.
Для журнала “Иностранная литература” Бродский перевел пьесу английского драматурга Тома Стоппарда “Розенкранц и Гильденстерн мертвы”, написанную по мотивам шекспировского “Гамлета”. Сегодня Стоппарда однотомником издали “Иностранка” и питерская “Азбука”. Эта пьеса постоянно идет в театре им. Вл. Маяковского, а его “Аркадию” сначала играли в БДТ года два тому назад, а сегодня ставят в театре Олега Табакова в Москве. Вот и думаешь: если бы Бродский его, своего современника, не читал, неизвестно, знали бы что-нибудь об этом драматурге, классике XX века.
Что в послереволюционные годы, что в годы семидесятые нашим поэтам ездить за границу было почти невозможно. Но культурных границ не существовало.
А сегодня они есть. Представить себе ситуацию, в которой какой-нибудь большой русский поэт нашего времени стал бы вести в стихах разговор с Тумасом Транстремером, Домиником Фуркадом или Хуаном Карлосом Местре, практически невозможно. Можно, конечно, возразить на это, что Бродский, обращаясь к Одену, подобным образом афишировал свое диссидентство (и тут привести оденовское “1 сентября 1939” как пример противостояния частного человека и власти, выливающегося в мировую войну). Но политика была для обоих поэтов делом вторым. Первым был язык. Пример поэтического контакта Бродского и Одена — едва ли не равнозначен контакту Райнера Рильке и Бориса Пастернака. И в том, и в другом случае наша поэтическая речь прирастала чужим опытом называть вещи именами. Ведь слова каждого языка открывают в предметах и явлениях мира разные грани смысла, и подлинное имя предмета или явления можно найти, лишь назвав его на всех языках одновременно.
Сегодня у нас в поэзии нет не то что межнациональных пар вроде Белый — Йейтс, Рильке — Пастернак и Оден — Бродский. Нет даже имен современников, введенных в строку на уровне сравнительного оборота: как тот-то и тот-то тогда-то пел… Бог с ней, с перекличкой на уровне смыслов. Хотя бы перекличку имен…
А между тем переводные томики и Транстремера, и Фуркада, и современных испанских поэтов, и поэтов каталонских, и даже польских, словацких — да каких только ни возьми — стоят бок о бок с томиками наших на полках книжных магазинов. Диалога нет. А что же есть?
А есть стремление каждого отдельного нашего поэта стать метафизиком. Причем вот какая интересная тенденция: критерии метафизичности в поэзии, по моим наблюдениям, сильно отличаются от когда-то сформулированных на примере поэзии того же Джона Донна, Йейтса, По и Т.С. Элиота. Метафизическим сегодня называется тот поэт, который пишет, нарушая законы метра и ритма, тяготея к верлибру, умело пользуясь арсеналом архетипически сильных понятий (вводит в строку абстрактные категории бога, времени, пространства, человека, всех человеческих чувств, названных с большой буквы). И стихотворение получается похожим на подстрочный перевод с какого-то несуществующего языка. А вернее — на перевод смысла из области философии, психологии, любой гуманитарной дисциплины — в область поэзии. Ведь известно, что можно рассказать о дереве, оставаясь в рамках зоологии. А можно — словами древнекельтской поэмы “Битва деревьев”…
Наши поэты перестали разговаривать с иноязычными современниками и разошлись на два лагеря: с одной стороны — “кружковые”, с другой — метафизики-одиночки. Особняком стоят гордые собственным делом переводчики. А диалога живых поэтов нет. На самом деле это страшно. И прежде всего — для языка. Потому что имя, введенное в строку, как камень, брошенный в воду, вызывает круги цитат из написанного под этим именем на другом языке. Как прямых цитат, так и косвенных. Ибо имя поэта, ставшее частью поэтической речи — валентно. Нельзя сказать “Гораций” и умолчать о памятнике. В противном случае — лучше вообще молчать. Что и делают наши поэты сегодня.
Проблема ведь не в том, что наша поэзия сегодня недостаточно цитатна. Нет. Она, эта поэзия, может быть, чересчур даже центонна. Тот же самый Кибиров. Но и цитатна, и центонна она лишь в пределах собственной традиции. Сополагая Пушкина, Окуджаву и Вознесенского — для центона нет ничего невозможного, — мы, естественно, высекаем новые филологические смыслы. Но эти смыслы очень трудно отделимы от формы (на этом в большой степени и держится центон). А написать, как Бродский: “Джон Донн уснул — уснуло все вокруг…”, — никто не пишет. А почему? Как одну из причин могу предположительно назвать недоверие к собственному образовательному опыту. Чтобы вести диалог, надо ведь знать того, с кем говоришь. И надо уметь слушать. И помнить имя говорящего тебе. Абсолютные категории добра и зла, Бога и времени с пространством замечательно обходятся сегодня монологом поэта.
Вот и получается, что наша русская поэзия движется к узконациональному варианту. А значит, нам лет через пятьдесят впору ждать нового классицизма, сентиментализма и романтизма. Когда мы снова будем готовы слушать и запоминать имена.
|
| Книга: Иосиф Бродский. Стихотворения и поэмы |
|
I
Он умер в январе, в начале года.
Под фонарем стоял мороз у входа.
Не успевала показать природа
ему своих красот кордебалет.
От снега стекла становились уже.
Под фонарем стоял глашатай стужи.
На перекрестках замерзали лужи.
И дверь он запер на цепочку лет.
Наследство дней не упрекнет в банкротстве
семейство Муз. При всем своем сиротстве,
поэзия основана на сходстве
бегущих вдаль однообразных дней.
Плеснув в зрачке и растворившись в лимфе,
она сродни лишь эолийской нимфе,
как друг Нарцисс. Но в календарной рифме
она другим наверняка видней.
Без злых гримас, без помышленья злого,
из всех щедрот Большого Каталога
смерть выбирает не красоты слога,
а неизменно самого певца.
Ей не нужны поля и перелески,
моря во всем великолепном блеске;
она щедра, на небольшом отрезке
себе позволив накоплять сердца.
На пустырях уже пылали елки,
и выметались за порог осколки,
и водворялись ангелы на полке.
Католик, он дожил до Рождества.
Но, словно море в шумный час прилива,
за волнолом плеснувши, справедливо
назад вбирает волны, торопливо
от своего ушел он торжества.
Уже не Бог, а только Время, Время
зовет его. И молодое племя
огромных волн его движенья бремя
на самый край цветущей бахромы
легко возносит и, простившись, бьется
о край земли, в избытке сил смеется.
И январем его залив вдается
в ту сушу дней, где остаемся мы.
II
Читающие в лицах, маги, где вы?
Сюда! И поддержите ореол:
Две скорбные фигуры смотрят в пол.
Они поют. Как схожи их напевы!
Две девы - и нельзя сказать, что девы.
Не страсть, а боль определяет пол.
Одна похожа на Адама впол-
оборота, но прическа - Евы.
Склоняя лица сонные свои,
Америка, где он родился, и -
и Англия, где умер он, унылы,
стоят по сторонам его могилы.
И туч плывут по небу корабли.
Но каждая могила - край земли.
III
Аполлон, сними венок,
положи его у ног
Элиота, как предел
для бессмертья в мире тел.
Шум шагов и лиры звук
будет помнить лес вокруг.
Будет памяти служить
только то, что будет жить.
Будет помнить лес и дол.
Будет помнить сам Эол.
Будет помнить каждый злак,
как хотел Гораций Флакк.
Томас Стерн, не бойся коз.
Безопасен сенокос.
Память, если не гранит,
одуванчик сохранит.
Так любовь уходит прочь,
навсегда, в чужую ночь,
прерывая крик, слова,
став незримой, хоть жива.
Ты ушел к другим, но мы
называем царством тьмы
этот край, который скрыт.
Это ревность так велит.
Будет помнить лес и луг.
Будет помнить все вокруг.
Словно тело - мир не пуст! -
помнит ласку рук и уст.
|
Источник: http://www.world-art.ru/lyric/lyric.php?id=7525
|
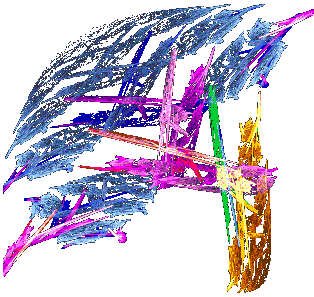 |
А.Нестеров
(МГЛУ)
О структуре цикла И.Бродского
«Июльское интермеццо».
Памяти флейтиста Александра Воронина,
которому автор статьи обязан
использованной здесь информацией
о джазовых составах 50-ых – 60-ых гг. я
|
|
| |
|
|
Для поэзии Бродского весьма характерно, что часто она есть продолжение чужой поэтической речи. Многие стихи Бродского начинаются «с затакта». Подразумеваемого, но не указанного. Так, «Элегия на смерть Т.С. Элиота» следует оденовскому стихотворению «Памяти У.Б.Йейтса», «1 сентября 1939 г.» вторит одноименному стихотворению Джона Берримена – и примеры эти можно множить и множить.
-
- Одна из частей «Июльского интермеццо» – большого цикла 1961 г. – начинается:
- «Воротишься на родину. Ну что ж.
- Гляди вокруг, кому еще ты нужен,
- кому теперь в друзья ты попадешь.
- Воротишься, купи себе на ужин
- какого-нибудь сладкого вина,
- смотри в окно и думай понемногу:
- во всем твоя, одна твоя вина.
- И хорошо. Спасибо. Слава Богу.»
- В данном случае «затактовым текстом» оказывается романс А. Вертинского «Без женщин».
Вертинский в ту пору вновь стал звучать в России – на какое-то время после своего возвращения на родину он попал в число чуждых, но дозировано-дозволенных «советскому человеку» авторов, став своего рода ниточкой, связующей две эпохи. Его романсы и песенки провоцировали странную смесь иронии и ностальгии, являясь символом чего-то большего, чем они сами. О популярности Вертинского говорит хотя бы то, что в 1952 и 1953 гг. ему дали выступить в одном из самых крупных залов Москвы – в «России».
-
- Именно печальный, в меру грустный и в меру ироничный Пьеро светских салонов и поэтических кафе начала века оказывается «собеседником» Бродского в интересующем нас стихотворении. Достаточно положить рядом два текста – «Воротишься на родину…» Бродского и «Без женщин» Вертинского, чтобы увидеть их параллелизм. Мы ограничимся тем, что процитируем несколько строф романса, курсивом выделив параллели:
- «Как хорошо без женщин и без фраз,
- Без горьких слез и сладких поцелуев,
- Без этих милых, слишком честных глаз,
- Которые вам лгут – и вас еще ревнуют.
- Как хорошо без театральных сцен,
- Без долгих благородных объяснений,
- Без этих истерических измен,
- Без этих запоздалых сожалений.
- Как хорошо проснуться одному
- В своем уютном холостяцком flat’е,
- И знать, что ты не должен никому
- Давать отчеты ни о чем на свете.
- Как хорошо с приятелем вдвоем
- Сидеть и пить простой шотландский виски,
- И улыбаясь, вспоминать о том,
- Что с этой дамой вы когда-то были близки...»
- Как хорошо, что некого винить,
- как хорошо, что ты никем не связан,
- как хорошо, что до смерти любить
- тебя никто на свете не обязан.
- Как хорошо, что никогда во тьму
- ничья рука тебя не провожала,
- как хорошо на свете одному
- идти пешком с шумящего вокзала.
- Как хорошо, на родину спеша,
- поймать себя в словах неоткровенных
- и вдруг понять, как медленно душа
- заботится о новых переменах.
- Синтаксически-ритмическая близость двух текстов очевидна – и сколь разителен при этом контраст. Иронично-манерная салонность Вертинского, с его «простым шотландским виски», «уютным холостяцким flat’ом», – и скупая, горькая интонация Бродского, в чьем тексте – дешевое красное вино, путь «пешком с шумящего вокзала». На одном полюсе – «долгие благородные объяснения», на другом – едва ли не советско-казенное «любить не обязан». Контраст двух эпох – Серебряного века с его порой фальшивой мишурой и «черно-белого рая новостроек» шестидесятых. Именно это несоответствие и порождает напряженность поэтического диалога-отталкиванья, именно оно и делает его возможным. В вызванной коммунистическим экспериментом обнищании внешней, вещной стороны жизни, в прорежении ее ткани, исчезновении всякой скрашивающей, наполняющей быт уютом предметности мира, кроется одна из причин, в силу которой в России послевоенная поэзия обернулась лицом к метафизике, к последним вопросам бытия. Сквозь полинялый, убогий лик мира стала просвечивать его сущность...
- Отсюда – и переводы Бродского из Донна, и столь отчетливо звучащие дантовские мотивы в «Прощальной оде». Бродский вбирает в себя опыт метафизической поэзии, предельно раскрывшись навстречу ему. В конечном итоге, все это кульминирует в «Большой элегии Джону Донну», с ее вопросом-отчаяньем:
- «Ведь если можно с кем-то жизнь делить,
- То кто же с нами нашу смерть разделит?»
- Именно поэтическая высота этой интонации, «предельность» самого вопрошания и есть тот «камертон», который определяет строй едва ли не всех текстов Бродского. Именно к этому абсолютному тону сдвигает Бродский вполне кокетливую песенку Вертинского.
Но, чтобы увидеть эту точку отсчета именно так, необходимо обратиться ко всему циклу «Июльское интермеццо», в который вошло «Воротишься на родину...»
В полном виде цикл публикуется весьма поздно – едва ли не двадцать лет спустя после его написания. В предисловии к «Остановке в пустыни» о нем упомянуто как об «Августовском интермеццо». В «Остановку...» же включены лишь два стихотворения: «Воротишься на родину...» (четвертое в цикле) и «Проплывают облака» (заключительное, десятое стихотворение). Внутри сборника эти тексты подчинены особому ритму восприятия, заданному для всей книги, напоминающей своим планом целостное архитектурное сооружение, – их разделяет более дюжины других стихов. В сборнике «Стихотворения и поэмы» 1965 года, составлявшемся без всякой редактуры Бродского, из «Интермеццо» присутствуют те же два стихотворения и «Романс», причем и здесь – без всякого указания на их принадлежность к некому единству.
Но в 1961 году, когда было написано «Интермеццо», Бродский экспериментировал с большими формами. В течении этого года создаются или дорабатываются «Петербургский роман», «Гость», «Шествие». Фактически, все три вещи – попытка воплотить «современную» поэму. Для них характерен если не сквозной сюжет, то сквозная драматургия. Очевидно, к этому же кругу текстов следует отнести и «Июльское интермеццо».
Если обратиться к самому циклу, мы обнаружим, что его ядро, части с 4 по 8, составляют тексты, «прошитые» музыкальными ассоциациями, начиная от заглавий: «Пьеса с двумя паузами для сакс-баритона» (пятое стихотворение цикла), «Романс» (шестое), «Современная песня» (седьмое), «Июльское интермеццо»(восьмое). Заметим, что характерным образом во втором стихотворении цикла – «Люби проездом родину друзей» – упоминается вальс, а в десятом – «Проплывают облака» – детское пение. При этом очевидно некое заданное чередование «современных» музыкальных жанров: джазовая пьеса, «современная песня» и жанров, тяготеющих если не к «классике», то, во всяком случае, к эпохе ушедшей, и в первую очередь – к рубежу веков: «романс» и «интермеццо».
«Ключ» к подобной структуре дан в «Пьесе с двумя паузами для сакс-баритона». Сакс-баритон – не столько обозначение инструмента – тот был бы баритон-саксофон, – сколько определение некого голоса: помесь баритона с саксом, способного пропеть, проговорить, выговорить жизнь, сохраняя соответствующую высоту и тембровку. (Из всех упоминаемых в стихотворении джазовых музыкантов лишь Джерри Маллиган играл на баритон-саксофоне. Остальные: Диззи Гиллеспи – труба, Джордж Ширинг – фортепьяно, Эрролл Гарнер – фортепьяно, Телониус Монк – фортепьяно. Существует совместная запись Монка и Маллигана, сделанная в 1957 году: «Mulligan meets Monk».)
С голосом же, вокалом связаны и «романс», и «песня». Вспомним, что в авторской ремарке, предваряющей «Шествие», Бродский уточняет смысл, вкладываемый им в понятие романс: «Романс – здесь понятие условное, по существу – монолог. Романсы рассчитаны на произнесение – и на произнесение с максимальной экспрессией. <...> Романсы, кроме того, должны произносится высокими голосами: нижний предел – нежелательный – баритон, верхний – идеальный – альт». Больше того, отчетливый привкус мелодекламации – жанра, любимого, опять же, в начале века, – слышится и в заключающем «Интермеццо» тексте – «Проплывают облака...».
Фактически, все развитие сюжета внутри цикла «подзвучено» «музыкой, доносящейся из окон», которая играет роль и фона существования – некой предметной вещности мира, втягиваемой в поэтический текст, – и ассоциативного ряда.
И «музыкальная упорядоченность» «Интермеццо» провоцирует на поиск соответствующих ассоциаций для остальных стихов. Заметим, что четным стихотворениям соответствуют музыкальные формы, тяготеющие к началу века. Пропуск третьего, нечетного, и, смеем предположить, в силу указанного ритма – «современного» текста (пусть существующего только номинально – как «пропущенная» строфа в «Евгении Онегине»), – лишь еще одно доказательство небесполезности этого занятия.
Напрямую заявленной «музыкальной рамки» в названии и явных «музыкальных отсылок» в тексте не имеют «Письмо на Юг» и «Августовские любовники».
Отметим, что само название – «Августовские любовники» – звучит осознанным диссонансом к названию цикла – «Июльское интермеццо». Это стихотворение локализовано как бы за хронологическими пределами всего цикла, очерченными названием. Облаченные в красные рубашки тени любовников, вечно возвращающихся «на новый круг», уже за пределами этой страсти, скользят сквозь призрачный город, город посмертия, который – лишь раскрашенный призрак бытия, морок. Жизнь вне любви, жизнь-в-смерти. (Ту же процессию призраков встретим мы и в «Шествии», со звучащей в его финале темой вечного возвращения на мучительно-бессмысленный круг существования.) В утешение же читателю «Интермеццо» остается омытая печалью воспаряющая ввысь кода – «Проплывают облака...»
Интересно, что обостренное внимание к нумерологическим построениям, задающим всю организацию текста, оказывается характерной чертой не только «Июльского интермеццо», но, в первую очередь, тех поэм Бродского, где ему уже удалось найти адекватную форму для «больших вещей» (циклы и поэмы 1961 года: «Гость», «Три главы», «Петербургский роман», «Шествие» и анализируемое нами «Интермеццо», – следует, все же, считать лишь «подступами к большой форме»).
Так, в «Исааке и Аврааме» важную структурообразующую роль играют числа «четыре» и «восемь»: значительный фрагмент поэмы посвящен интерпретации графического образа четырехбуквенного слова «куст», вокруг которого формируется образ Неопалимой Купины – тернового куста, горящего не сгорая, в котором Господь явился Моисею, – а само это слово становится отражением Тетраграмматона, Имени Господня. А настойчивое повторение в поэме цифры «8» – причем в виде графического значка, соотносимого с символом бесконечности, – вполне вероятно, восходит к каббалистической традиции, где эта цифра соотносится с восьмой сефирой дерева Сефирот, – Хесед, «Славой».
О том, что форма поэмы «Горбунов и Горчаков» в первую очередь была предопределена избранной для поэмы формой стиха: «того, что я называю децимой, с чередующейся рифмой ABABABABAB. В каждой строке десять слогов, в каждой строфе десять строк, в каждой части десять строф. Я использовал это в поэме <…>, чтобы передать умонастроение персонажей», – отмечал сам Бродский в интервью Анн-Мари Брамм.
Как мы видим, изучение композиционно-нумерологических структур в поэзии Бродского, одним из примеров которых может служить строение цикла «Июльское интермеццо», открывает весьма интересные перспективы.
|
| |
niw 07.01.2005
|
Источник: http://www.niworld.ru/Statei/annesterov/Br_muzic/Br_muzic.htm
Григорий КРУЖКОВ
COMMUNIO POETARUM: ЙЕЙТС И РУССКИЙ НЕОРОМАНТИЗМ
 |
Ностальгия обелисков:
Литературные мечтания.
М.: Новое литературное обозрение, 2001.
Художник Евгений Поликашин.
ISBN 5-86793-135-8
С.113-343.
|
|
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Закат эстетической эпохи и последующая смена общественной парадигмы неизбежно оказываются в центре внимания при любой попытке сравнительного анализа творческой эволюции Йейтса и его русских современников. Тут проходит граница между ранним Йейтсом, певцом "кельтских сумерек", и зрелым Йейтсом, автором "Башни" и "Последних стихов". Тут проходит черта между "дореволюционным" и "послереволюционным" периодами русской поэзии. Именно в этот период эсхатологические мотивы в стихах усилились до предела. Обострились все чувствилища лирики; дар пророчества снизошел на головы певцов; поэзия явила свою полную беспомощность и величайшую силу.
Рассматривая этот переходный период, важно понять не только то, что изменилось, но и то, что осталось неизменным, увидеть не только сдвиг, но и непрерывность. Так сформировалась идея данной работы. Основной ее темой стала судьба символистского наследия у акмеистов, точнее сказать, то подспудное продолжение акмеистами символизма (прежде всего, в его неоромантическом аспекте), которое выходит на поверхность после революций и гражданской войны, а у Мандельштама движется дальше и доходит до крайних пределов в 30-е годы. Эта эволюция происходит вопреки ранним декларациям акмеизма, да и его ранней поэтике, и поэтому часто остается незамеченной1. Сопоставление с Йейтсом, прошедшим сходный путь, оказывается мощным эвристическим приемом, который позволяет увидеть эту сторону проблемы. Полученная таким способом концепция дает ключ к пониманию эволюции и Мандельштама, и Гумилева, и Ахматовой, радикально меняет общепринятый взгляд на сущность акмеизма и его место в истории литературы. Становятся в один ряд такие разные и недооцененные факты, как неприятие Блоком не самой сути акмеизма, а его патента на новизну ("Зачем вы хотите "называться", ничем вы не отличаетесь от нас"2), постоянно повторяемая Мандельштамом фраза о "родовом лоне символизма", из которого все вышло, отзыв В. Жирмунского о "Поэме без героя" как об "исполненной мечте символистов"3.
Акмеизм, по нашему мнению, был не отменой, но "автокоррекцией" символизма, призванной исправить такие его застарелые недуги, как абстрактность, нарцисизм, гигантизм, "водянка больших тем". Глубинных, неоромантических по своей сути, основ художнического мировоззрения эта коррекция не затронула. Произошла лишь переакцентировка, условно говоря, с Ницше на Метерлинка, с проповедей Заратустры на "Сокровище смиренных". В поэтике произошло усвоение "объективного коррелята" (если использовать терминологию Элиота), укоренение высшего и непознаваемого принципа в повседневности, в милых вещах мира, в самом слове, бесконечно емком и неисчерпаемом. Путь западного имажизма, метод "ясности" и "объективности", оказался чуждым русским поэтам. Наоборот, после относительно короткой паузы началось беспримерное усложнение поэзии у Гумилева, Мандельштама, Пастернака, даже у "клариста" Кузмина ("Форель разбивает лед"), даже у Ахматовой – хотя, при ее словесном аскетизме, усложнение смыслов ("кодировка") не так бросается в глаза.
Это символистская сложность отчетливо видна в "многострунности" последнего сборника Гумилева "Огненный столп", в культурных шифрах книги "Tristia" Мандельштама и особенно его стихов 1921 – 1925 годов. Кажется, что неблагоприятные внешние обстоятельства лишь усиливают в бывших акмеистах благородную приверженность к символистской "вере отцов"; крушение Серебряного века пробуждает у них не капитулянтские настроения, а инстинкт сопротивления.
Метафора Мандельштама о "родовом лоне символизма", если вдуматься в нее, объясняет главное. Нельзя родиться чем-то одним, а потом сделаться совсем другим. Не зря Йейтс пишет, как о чем-то непоправимом: "из материнского лона я вынес свое неистовое сердце", подразумевая под матерью Ирландию4. Так же и акмеисты, вышедшие "из лона символизма" (читай: неоромантизма), ничем другим, кроме как символистами и романтиками, стать не могли. И Гумилев, и Мандельштам, и Ахматова остались верны принципам символизма – высокого, мистического по своей сути искусства.
Ричард Эллман заметил, что если в молодости Йейтс и был эстетом, построившим себе башню из слоновой кости, то в дальнейшем он "выбрался наружу в мир и добыл там менее изысканные материалы, которыми постепенно заменил всю слоновую кость, до последнего кусочка"5. Идея рукотворной "башни", может быть, главное, что отличает "второй романтизм" – символизм – от первого. Горный замок байроновского Манфреда или башня Аластора у Шелли не вызывают у читателя вопроса, откуда взялись эти конструкции, возвышающие романтического героя над миром. Но у Йейтса, у Волошина, у Мандельштама – башни сотворенные: "Мы не летаем, – писал Мандельштам в статье "Утро акмеизма" (1913), – мы поднимаемся только на те башни, которые сами можем построить"6. Иначе говоря, не чистое вдохновение, слетевшее с небес неведомо как, но ремесло, труд, усилие преодоления – вот пафос "акмеистического", "настоящего" символизма. Между прочим, самый парадоксальный метод строительства применила Ахматова – она сложила свою башню из брошенных в нее камней: "Так много камней брошено в меня, / Что ни один из них уже не страшен, / И стройной башней стала западня, / Высокою среди высоких башен" ("Уединение", 1914). Именно на эту башню она восходит в своей вершинной "Поэме без героя": "Из года сорокового, / Как с башни, на все гляжу..." Но обратим внимание, что и рукотворные башни акмеистов – все-таки башни: романтический символ в своей основе не поколеблен. Подчеркивается лишь значение жизнестроительства, противоборства судьбе.
Русская поэзия после своего обновления в 1890-х приходит к этому не сразу; сперва ее кумир – декадент, потом – жрец, и лишь затем – герой, делатель. Это соответствует трем этапам русского символизма: "эстетского" Брюсова и Бальмонта, "религиозного" Андрея Белого и Вячеслава Иванова и, наконец, "акмеистического" Гумилева и Мандельштама. Эти фазы развития прошел и Йейтс, и хотя эстетское, религиозное и героическое у него переплетаются, нетрудно убедиться, что на первом этапе в его стихах преобладал эстетизм, на среднем – квазирелигия (оккультизм) и на последнем этапе – героизм. Не зря его самыми последними произведениями стали пьеса "Смерть Кухулина" и стихотворение "Черная башня", прославляющее мужество осажденных, верных своей присяге.
В послевоенную эпоху, когда, по выражению Мандельштама, акции личности в истории резко упали7, акмеисты сохранили романтический дух одиночества, избранничества. Они по-прежнему обращались не к современнику, не к публике, а к некому далекому, идеальному читателю-собеседнику. Еще в 1909 году молодой Мандельштам писал В. Иванову: "У вас в книге есть место, откуда открываются две великих перспективы, как из постулата о параллельных две геометрии – Эвклида и Лобачевского. Это – образ удивительной проникновенности – где несогласный на хоровод покидает круг, закрыв лицо руками"8. Несмотря на все искушения мистической, а впоследствии советской, "соборности" и тяжелую борьбу с этими искушениями, Мандельштам в конце концов остался "несогласным на хоровод". Остался вне "равенств и братств" – потому что знал свою принадлежность к иному, невидимому братству, к "сообщничеству сущих в заговоре против пустоты и небытия"9.
Акмеисты сохранили еще один важнейший романтический атрибут – тайну. Этот шиболет символизма постоянно на устах лирической героини Анны Ахматовой. "Музы тайная рука", тайные годовщины и печали, глубоко затаенный миф о провиденциальном возлюбленном – неотъемлемые черты ее поэзии, включая позднюю ("Поэма без героя", циклы "Cinque" и "Шиповник цветет"). Николай Гумилев начал говорить о "неизбежности" мистической поэзии по крайней мере с 1917 года10. Его стихи делаются все загадочней ("Душа и тело", "Дева-птица", "Звездный ужас"). Стихотворения Осипа Мандельштама, написанные после книги "Tristia", в том числе "Грифельная ода", "Век", "Нашедший подкову", вызывающе таинственны, темны для непосвященного – не в меньшей степени темны, чем стихи Йейтса, основанные на системе его "Видения". Можно смело сказать, что и Гумилев, и Ахматова, и Мандельштам, не являясь адептами никаких оккультных наук, фактически, то есть в своих стихах, утверждают приоритет "тайного знания" над эмпирической видимостью мира.
Наряду с избранничеством и тайнознанием, акмеисты сохранили еще одну важнейшую романтическую черту – жертвенность. Готовность погибнуть ради перевоплощения в слово, ради того, что Йейтс называл трансмутацией жизни в искусство, была для них само собой разумеющимся условием их ремесла. Я сейчас говорю "акмеисты" условно, подразумевая и других крупных поэтов постсимволистского периода, например, Ходасевича, Пастернака. Гумилев был готов принять огненную смерть, Мандельштам "своею кровью склеить двух столетий позвонки", Ходасевич – пройти "путем зерна", Пастернак – умереть как римский гладиатор ("О, знал бы я, что так бывает..."). Если развивать йейтсовскую алхимическую метафору, тут можно уточнить, что существует два разных пути трансмутации. В алхимии они называются "влажный путь" и "сухой путь". Суть первого в том, что все тленное, несовершенное постепенно вымывается из материи делания, оставляя лишь золотую крупицу бессмертия11. Суть второго, "сухого пути", в том, что все должно полностью, до конца сгореть и заново возродиться. В применении к пути поэта речь идет, в первом случае, о долгом опыте страдания и очищения, во втором – о мгновенном огненном перерождении12. Алхимик (или, как их называли в старину, "искусник" – "artist") сам выбирает свой метод. Гумилев пошел более скорым, "сухим путем", Мандельштам – после многих колебаний – тоже взошел на костер. Йейтс – или, например, Вячеслав Иванов – типичный пример художника, шедшего медленным, "влажным путем"13.
В опыте великих поэтов, прошедших через кризис символизма и эстетизма, заключается два урока. Первый урок – памяти и верности: "Звук еще звенит, хотя причина звука исчезла", и далее: "Губы человека, которому больше нечего сказать, сохраняют форму последнего сказанного слова"14.
Второй урок – обновления. Неоромантизм не смог бы достичь зрелости и дать свои наивысшие достижения, если бы не исправил изъянов раннего символизма, не заземлил его излишней выспренности, не усвоил многое из антиромантической модернистской эстетики 1910 – 1920 годов. Так, например, Йейтс включил "пахучий реализм" Джойса в некоторые свои поздние стихи (так называемые "lust and rage poems").
Наследники символизма сумели соединить распавшееся на переломе эпох время, "связать флейтой" "узловатые колена дней". Их заслуга не была сразу понята и оценена, ибо на передний план вышли совсем другие люди и другие вкусы. Таков, видимо, закон литературы: романтическая традиция никогда не умирает, но, как река, уходит под землю и через долгое время, пережив равнодушие сыновей, снова выходит на поверхность, чтобы питать творчество внуков.
Яркий пример – Иосиф Бродский, последний наследник Серебряного века, ученик Ахматовой, Мандельштама, Цветаевой и Пастернака. Непрерывность традиции видна, например, в том, как Бродский в своем стихотворении "Строфы" вдохновенно подражает английскому романтику Шелли – точнее сказать, подражает Пастернаку, переложившему на русский стихотворение Шелли "Строки":
Раскололась лампада,
Не затеплится луч.
Гаснут радуг аркады
В ясных проблесках туч.
На прощанье – ни звука.
Граммофон за стеной.
В этом мире разлука –
Лишь прообраз иной.
В 1965 году Бродский написал стихотворение "На смерть Т.С. Элиота", начинающееся словами: "Он умер в январе, в начале года..." По своей композиции, ритмам и образам это – вариация на стихотворение самого Элиота, посвященного смерти Йейтса и начинающегося словами: "He disappeared in the dead of winter". Бродский тоже умер в январе, как Йейтс и как Элиот, и нью-йоркская русская газета рядом с траурной фотографией поместила его строки, посвященные Элиоту и ставшие эпитафией ему самому. Во второй строфе стихотворения Бродский говорит о том, что "поэзия основана на сходстве / бегущих вдаль однообразных дней" и что она ни в чем так не видна, как "в календарной рифме", то есть в совпадении дат. (Обратим внимание, что магия дат была одной из любимых идей А.А. Ахматовой.) Со смертью Бродского, двойная рифма стала тройной. Последнего русского поэта-романтика проводила в могилу строка, сказанная Элиотом о Йейтсе.
|
Продолжение книги "Ностальгия обелисков"
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Ср. с замечанием К. Тарановского: "Наследие символизма у акмеистов гораздо сильнее, чем это кажется на первый взгляд". Тарановский К. О поэзии и поэтике. М., 2000. С. 156 (сноска).
1 Блок А. Дневники. 23 апр. 1913. Собр. соч. Т. 7. С. 181, 238.
1 См.: Ахматова А. Соч.: В 2 т. М., 1990. С. 352 и 361.
1 Отметим, что Йейтс считал Ирландию оплотом мирового идеализма и романтизма.
1 Ellmann R. The Man and the Masks. N. Y. – L., 1978. P. 294–295.
1 Мандельштам O. Т. 2. С. 145.
1 Конец романа (1922) // Мандельштам О. Т. 2. С. 203.
1 Мандельштам О. Камень. Серия "Литературные памятники". Л., 1990. С. 207.
1 Утро акмеизма (1912) // Мандельштам О. Т. 2. С. 144.
1 Бехгофер К. Интервью с Гумилевым // Гумилев Н.С. Соч.: В 3 т. М., 1991. С. 225.
1 См. Нестеров А. У.Б.Йейтс: Sub Rosa Mystica. C. 610.
1 В главе "Византийские стихи Йейтса и Мандельштама" дается, по сути, та же оппозиция. "Плавание в Византию" и "Византий" описывают соответственно "сухой" и "влажный" пути трансмутации.
1 Христианство, алхимия и поэзия – три параллельных пути достижения бессмертия. Неудивительно, что алхимия была источником символов для поэзии, а порой и для христианской прозы. Джон Донн (1572 – 1631) использовал ее в любовной лирике, а позднее, когда стал священником, в проповедях. Он говорил, например, что для достижения праведности "мало одного растворения, мало омовения и трансмутации, которой достигают этим очищением и омовением, – нужна фиксация, закрепление". Сам Донн, очевидно, шел "влажным путем".
1 "Нашедший подкову" (1923). Мандельштам О. Т. 1. С. 148.
1 Подробнее см. статью "В зимних сумерках на опушке века".
|
|
Источник: http://magazines.russ.ru/znamia/2003/11/kachalk.html
Мария Пироговская
РИТМ И СМЫСЛ: ПЯТИСТОПНЫЙ ЯМБ
ИОСИФА БРОДСКОГО
Бродский обладал особой манерой декламации - эту, по словам Льва Лосева [Полухина: 121], "квинтэссенцию музыкальности и праздник просодии" отмечали все, кто его слышал. Его индивидуальная манера, как показал Джеральд Янечек, была связана скорее "с просодической структурой текста, чем с нормальными речевыми интонациями", и при этом основывалась на наглядно представленных в тексте строфо- и строкоразделе [Янечек: 40]. Бродский, читая свои и чужие стихи, неизменно подчеркивает рифму и ритм: вот почему его слушатели говорят о монотонности этой манеры чтения - манеры, которая основывается не на семантике стихотворения, а на его ритмической структуре. Возникает вопрос, существуют ли в самой стиховой структуре предпосылки для монотонии.
Говоря об Одене, Бродский восхищается нейтральностью его тона, чуть ли не монотонностью [Бродский 1998: 67]; то же он повторит об Эудженио Монтале [Бродский 1998: 40]. Можно было бы заключить, что декламация Бродского отчасти является способом совместить энергию речи и сдержанность, способом приблизиться к Одену - хотя бы на уровне звучания. Некоторую путаницу вносят непосредственные высказывания Бродского о функциях ритма. По слову Ахматовой, "ритм есть мотор стиха", и Бродский напоминает об этом неоднократно. "Время - источник ритма. <�…> И чем более поэт технически разнообразен, тем интимнее его контакт со временем, с источником ритма", - говорит Бродский в беседе с Волковым [Бродский 1997: 26]. В своих поэтологических текстах Бродский подчеркивает, что ритмическое разнообразие прямо соотносится с обретением индивидуального голоса, - имея в виду, скорее всего, разнообразие метрического репертуара. Т.е. требование сдержанности речи сочетается с требованием поиска особого голоса, выражаемого через стихотворный размер. Любопытно посмотреть, как это соотносится с поэтической практикой Бродского.
С точки зрения ритма в узком смысле Бродский бывает поразительно монотонен. Исследование его Я4, например, дало такую картину: типы ритмического профиля, при высоком ритмическом варьировании, обнаруживают отчетливое структурное сходство, которое проявляется в большой амплитуде колебаний между иктами [Беглов: 111]. Этот контрастный ритм достигается за счет того, что в пространстве стихотворения ритмические возможности размера редуцируются, одни ритмические формы последовательно нагнетаются, другие вытесняются полностью или почти полностью; "обнажение ритма стоп, достигаемое скоплением одинаковых форм, не может не иметь своим следствием объективную метризацию ритма" и задает ритмическую монотонию [Беглов: 112-113].
Но в Я4 различных вариантов ритма относительно немного - семь (восьмая ритмическая форма на практике не употребительна). Поэтому для проверки мы взяли более разнообразный Я5 и ограничились одной каталектической разновидностью - Я5 с мужскими окончаниями.
Я5 - один из самых частотных размеров в метрическом репертуаре раннего Бродского [MacFadyen: 195]. Все произведения, написанные Я5 с мужскими окончаниями, были созданы в 1960-е гг. Помимо полиметрического "Шествия" (для большей части главок избран как раз Я5 с мужскими клаузулами) и "Зофьи" этому периоду принадлежат одиннадцать стихотворений. Два текста - "Дерево" и "Aqua Vita Nuova" - написаны в 1970 г. В дальнейшем к этому клаузульному типу Я5 Бродский никогда не обращался.
1960-е гг. для Бродского - время эксперимента и поиска, время влияний - Одена, Пушкина, Фроста, Цветаевой, Элиота. Так, под пушкинским влиянием у Бродского появляются классические размеры золотого века (Я5 и Я6), пишутся большие повествовательные поэмы ("Гость", "Зофья", "Петербургский роман", "Исаак и Авраам") [Гордин: 229-230]. Более того, Лосев утверждает, что в эту эпоху Бродский "погрузился в исследование богатейших возможностей Я5" [Лосев: 66]. Результат, к которому в своем "исследовании" приходит поэт, ошеломляет.
В эссе "Как читать книгу" Бродский, сравнивая поэзию и прозу, замечает: "<�…> поэзия - по выражению Монтале - искусство безнадежно семантическое, и возможности для шарлатанства в нем чрезвычайно малы. К третьей строчке читатель будет знать, какого рода вещь [перед ним], ибо поэзия проявляется быстро и качество языка в ней дает себя почувствовать немедленно" [Бродский 1998: 14-15]. К третьей строчке стихотворения, написанного Я5 с мужскими клаузулами, читатель, более или менее знакомый с лирикой Бродского, неизбежно понимает, что что-то подобное он уже слышал. Порывшись в памяти, он припомнит другие ямбические пятистопники Бродского, в которых клаузулы тоже мужские (тип рифмовки решающей роли не играет). Специфический ритм, повторяющийся от текста к тексту, работает как своего рода мнемонический прием, благодаря которому тексты "зацепляются" друг за друга и связываются воедино.
Я5 Бродского, как показали данные Макфэдайна, ритмически отличается от Я5 советских поэтов того времени: у Бродского повышена ударность первого и третьего иктов (больше 90% и 85% соответственно) и понижена ударность второго и четвертого иктов (ниже 70,9% и 40%) [MacFadyen: 195] при средних для того времени показателях 82,5 - 72,3 - 84,1 - 38,9 - 100%1. Однако при отдельных подсчетах для Я5 с мужскими клаузулами складывается еще более удивительная картина (см. Таблицу 1). Помимо пониженной средней ударности икта, возникает яркое расподобление первой и второй стоп: если для эпохи средняя разница между первой и второй стопой составляла 10,2%, то
у Бродского она составляет 66,2%2. Увеличивается отягченность третьей стопы, которая приближается по ударности к пятой стопе - ударной константе. На этом фоне выделяется традиционно слабая четвертая стопа. Первая и третья стопы практически всегда сильные и становятся, т.о., метрическими константами3.
Таблица 1. Ритм Я5 с мужскими клаузулами (Бродский)
|
Строк |
% ударности стоп
|
ср. ударность икта |
| I |
II |
III |
IV |
V |
| "Зофья" |
706 |
95,3 |
28,5 |
97,0 |
12,3 |
100 |
66,6 |
| Стихотворения |
284 |
94,7 |
30,3 |
97,2 |
9,2 |
100 |
66,3 |
| Всего |
990 |
95,2 |
29,0 |
97,1 |
11,4 |
100 |
66,5 |
Выраженный трехчленный ритм возникает как результат предпочтения одних ритмических форм другим (см. Таблицу 2 в Приложении). В лирических произведениях Бродского, написанных Я5 с мужскими клаузулами, 67,3% строк принадлежат одной ритмической форме - девятой, с сильными нечетными и слабыми четными иктами. Здесь даже нельзя говорить о ритмическом каркасе, поскольку так может быть построено чуть ли не все стихотворение (например, "Чаша со змейкой", где из 72 строк девятая форма встречается в 64, а пятая - в 6). Второе по частотности место занимает пятая форма - 19,0%. Сходным образом распределяются ритмические формы в поэме "Зофья": девятая составляет 64,6%, пятая - 19,5% строк.
Т.о. выбор размера, Я5 с мужскими клаузулами, как и в случае с Я4, автоматически подразумевает для Бродского выбор ритма. Ритм застывает, силлабо-тонический размер стремится к превращению в логаэд, в ритмический архетип; так, если рассматривать то же стихотворение "Твой локон не свивается в кольцо…" изолированно, то размер вполне можно определить как пеон второй.
Все стихотворения, написанные Я5 с мужскими клаузулами, оказываются изоритмичны - поскольку ритмической константой всех текстов служит одна ритмическая форма, девятая, отвечающая за трехчленный ритм. Вероятно, это можно объяснить влиянием поэмы "Зофья": все тринадцать стихотворений были написаны после нее. Я5 с мужскими клаузулами стал для Бродского размером и ритмом "Зофьи".
В "Зофье" Бродский выработал особый ритм, который, по сути, и является скрепой, соединяющей поэму в единое целое, при том, что сюжет сознательно отодвинут на второй план, скрыт медитативными отступлениями. Ритмическая монотонность стиха оказывается средством создания драматической напряженности. Т.о. в сложную систему повторов - лексических, синтаксических, образных - встраивается еще один уровень, на котором повторяются и чередуются ритмические вариации. Центральный образ поэмы - раскачивающийся маятник, метонимически представляющий время и соотносимый с колебанием между противоположными полюсами [Polukhina: 72], находит соответствие и на уровне ритма: три сильных икта в девятой форме (ударная рамка и ударение в середине стиха) отмечают три точки в движении маятника - точки максимального отклонения и положение равновесия.
Избрав для поэмы Я5 со сплошными мужскими рифмами, Бродский, по-видимому, ориентировался на классические образцы. Но вряд ли это были произведения Пушкина: такой Я5 появляется в русской поэтической традиции лишь в конце 1830-х гг. Сплошные мужские клаузулы, обычные для английской традиции, в русской под влиянием переводов стали восприниматься как "знак нового романтического стиля", знак байронического романтизма [Гаспаров: 153]: у Лермонтова этот клаузульный тип Я5 оказывается одним из самых продуктивных4. В первой половине 1960-х гг. поэзия Лермонтова для Бродского чрезвычайно важна, и, если и нельзя говорить о прямом влиянии лермонтовского ямба на метрику "Зофьи", то и забывать о генезисе размера тоже не следует. Важно, что оба поэта в большой степени зависели от английской поэтической традиции. Осмысляя специфику этой традиции, Бродский говорит в одном интервью: "Вот еще одно существенное отличие англоязычной поэзии: стихотворение по-английски - это стихотворение преимущественно с мужскими окончаниями <�…> Самый сопливый англоязычный поэт благодаря своим мужским окончаниям воспринимается русским слухом как голос сдержанности, как голос если и не суровый, то полный достоинства" [Волков: 96].
Стихотворения, написанные после "Зофьи", обнаруживают, помимо тождественной ритмической структуры, тематическую близость. Условно их можно разделить на две группы: во-первых, тексты, ответвившиеся от "Зофьи" и связанные с ней на уровне сюжета, темы, образа (вплоть до "блуждающих" строк): таковы апокалиптическое стихотворение "В тот вечер возле нашего огня…", вышедшее из фрагмента второй главы "Зофьи"5, и набросок "Дерево". Вторую группу образует ряд любовных стихотворений, представляющих собой несобранный цикл с единым лирическим сюжетом (набросок "Июль. Сенокос" стоит особняком). Рассмотрим эти две группы подробнее.
Образ коня в стихотворении "В тот вечер возле нашего огня…" восходит к Откровению ("Я взглянул, и вот, конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей" (Откр, 6, 5), однако "Зофья" ближе. К поэме отсылают формальные характеристики (анафоры, параллелизм сравнительных оборотов и вопросительных конструкций, использование графической разбивки для отделения ключевых строк) и основные художественные категории: время ("полночь на часах"), пространство ("деревья впереди", "во тьме", "мгла"), сквозные образы ("игла", "тени", "зерно", "мрак"). Даже слово "негатив", на первый взгляд стилистически неоправданное, находит соответствие в поэме: "отец чинил свой фотоаппарат…", "темнели фотографии родни".
"Дерево", в свою очередь, тоже осколок "Зофьи": стихотворение вырастает из видения в первой главе поэмы ("деревья в нашей комнате росли") и метафизического пейзажа во второй ("во мраке с черным деревом в глазу"). В "Дереве" подчеркнуты те же апокалипсические образы - "солнце", "звезда", "топор". Но, помимо этого, "Дерево" перекликается с другим ямбическим пятистопником - вступлением, открывающим сборник Рильке "Книга образов"6. Текст Рильке полярен, противоположен по смыслу тексту Бродского, и как раз эта полярность заставляет подозревать наличие связей между ними. У Бродского дерево напоминает об отчаянии и смерти, у Рильке - о смущении человека перед величием мира. Рильке взволнован тайной творения, Бродский - тайной разрушения7.
Второй круг текстов, также объединяемых общностью времени и пространства, коллизии и адресата, составляют любовные стихи. Лирический сюжет - разлука с возлюбленной, случившаяся или воображаемая: "пишу "прощай" неведомо кому", "пространство, разделяющее нас", "ничто уже не связывает нас", "пустившись в дальний путь", "не судьба нам свидеться". Повторяется пейзаж - ночной, сумрачный, повторяются мотивы дождя и непроницаемости пространства между адресантом и адресатом. Облик последнего размыт и неясен по причинам физическим ("хрусталик погружается во тьму", "назад взглянуть / мешает закругление земли") и метафизическим ("ведь каждый, кто в изгнаньи тосковал, / рад муку, чем придется, утолить / и первый подвернувшийся овал любимыми чертами заселить"). Взгляд - на любимую или в прошлое - остается единственным мыслимым способом связи; потому зрение и приравнивается к памяти ("память из зрачка не выколоть") и сравнивается с нитью Ариадны, связывающей героя и его возлюбленную в запутанном мире-лабиринте, т.е. с тропой - с судьбой.
Одна черта образа возлюбленной повторяется постоянно: даже в косвенном описании упоминаются ее волосы. Сам облик может распадаться чуть ли не на кубистические плоскости, но одна деталь - метонимия возлюбленной, проникнутая сильнейшим эротическим переживанием, сохраняется: "твой локон не свивается в кольцо", "твой локон для гнезда", "в локонах покинутых слились / то место, где их Бог остановил, / с тем краешком, где ножницы прошлись", "пучок волос напоминает гриф". Волос - это отчасти и нить судьбы, которая свивается в кольцо лишь в лабиринте (помогая входу совпасть с выходом), и сквозные рифмы и мотивы подчеркивают общность локона и путеводной нити: "нить - соединить", "лицо - кольцо", "глаз - нас", "тьме - полутьме - тюрьме - в уме", "два путника, зажав по фонарю, / одновременно движутся во тьме", "обрывок милый сжав в своей руке, / бреду вперед", "не судьба нам свидеться", "и не встретившись в уме". Связь между людьми редуцируется до хранящихся в памяти отдельных элементов облика, до вычисления расстояния между людьми и высчитывания срока разлуки. Синонимом слова "любить" становится слово "помнить" и, далее, "разговаривать" - хотя бы и с отсутствующей возлюбленной. Поэтому в контексте стихотворения даже те элементы, которые лишены сексуальных коннотаций сами по себе, приобретают чувственную окраску8.
Адресаты любовной лирики могут быть разные - Зося Капусцинска, Марина Басманова, Т. Р., Фэйт Вигзел. Общим становится расстояние между "я" и "ты", зазор между "любить" и "помнить". Разлука из переживания превращается в устойчивый лирический сюжет, в архетип (так же, как размер сводится к ритму). Всякая новая ситуация, новый сюжет оказывается вариантом единой схемы, параллель которой обнаруживается у Донна (см. об этом: [Bethea: 112-114]), а способом перевести эту схему в лирическое стихотворение становится размер, который в рамках поэтического мира Бродского обретает не только настроение, но четкий семантический ореол. В стихотворениях, написанных одним и тем же размером, используется приблизительно один и тот же набор вариаций. Принцип изоритмичности наблюдается и в произведениях, удаленных друг от друга хронологически. Это свидетельствует об очень сильном авторском ощущении ритмического рисунка - и семантического ореола размера. Метр, ритм и смысл вступают в отношения взаимозависимости.
В одном из интервью Бродский заметил: "Я склоняюсь к нейтральности тона и думаю, что изменение размера или качество размеров, что ли, свидетельствует об этом. И если есть какая-либо эволюция, то она в стремлении нейтрализовать всякий лирический элемент, приблизить его к звуку, производимому маятником, то есть чтобы было больше маятника, чем музыки" [Бродский 1987: 176]9.
|
Северозападный ветер его поднимает над
сизой, лиловой, пунцовой, алой
долиной Коннектикута. Он уже
не видит лакомый променад
курицы по двору обветшалой
фермы, суслика на меже.
Сердце, обросшее плотью, пухом, пером, крылом,
бьющееся с частотою дрожи,
точно ножницами сечёт,
собственным движимое теплом,
осеннюю синеву, её же
увеличивая за счёт
еле видного глазу коричневого пятна,
точки, скользящей поверх вершины
ели; за счёт пустоты в лице
ребёнка, замершего у окна,
пары, вышедшей из машины,
женщины на крыльце.
Но восходящий поток его поднимает вверх
выше и выше. В подбрюшных перьях
щиплет холодом. Глядя вниз,
он видит, что горизонт померк,
он видит как бы тринадцать первых
штатов, он видит: из
труб поднимается дым...
Да, следует со всей определенностью признать: в этом большом стихотворении наличествуют все признаки настоящей поэзии - несомненное мастерство в обработке словесного материала; строгая строфика; естественное, как дыхание, перетекание ритма из строфы в строфу; точность и глубина рифм; недюжинная зоркость глаза и вытекающая из этого острота описаний. Но... почему же тогда эти мерные стихотворные строки так отстранены, так заунывны, чтоб не сказать - скушны?! Эти стихи своей принципиальной неторопливостью, подробностью и дотошностью описаний очень уж смахивают на перевод, скорее всего - с англоязычного подлинника.
В каком веке, в каком времени написаны эти стихи? Ведь темп мышления в них - явно несовременный! Кто это - Вордсворт или Колридж, славные представители "Озёрной школы"? Или, быть может, Вильям Блейк, имевший склонность к подробному и точному описанию экзотических животных? Тигр, о тигр, светло горящий
В глубине полночной чащи!
Кем задуман огневой
Соразмерный образ твой?
……………………………
Что за мастер, полный силы,
Свил твои тугие жилы
И почувствовал меж рук
Сердца первый тяжкий стук?
(Перевод С. Маршака)
В русской поэзии не находится таких образчиков "нейтрального" ко времени стихотворчества, без погружения корней в почву отечественной словесности.
Гидропоника...
III
Получение именно Иосифом Бродским Нобелевской премии по литературе было неожиданным даже для его немногочисленных почитателей за рубежом, ибо в самой России читателей у него практически не имелось, - кроме узкой литтусовки из недавнего ближайшего окружения.
Дело в том, что присуждение этой высокой награды никак не вытекало из его предшествовавшей работы и может быть рассмотрено только в политическом аспекте.
В самом деле: и Пастернак, и Солженицын, и Бродский были представлены к этой награде скорей за некие общечеловеческие заслуги, или, как выразились бы веком ранее - за страдания… Михаил Шолохов не в счёт: его премия, хоть и была более обоснована, - скажем так, с литературных позиций, тоже, как хорошо известно, явилась результатом игры определённых политических сил и интересов.
Прямо скажем; обидно за русскую литературу! Напомню, что в 1933 году Нобелевский комитет долго колебался между русским писателем Иваном Буниным, - дворянином и эмигрантом - и русским же писателем Максимом Горьким, к тому времени вернувшимся в Советскую Россию…
А в начале века так и не удостоил премии величайшего писателя, гения земли русской - Льва Толстого...
Не отмечены "Нобелевкой" ни великолепный Борис Зайцев, ни Евг.Замятин, - предтеча всех антиутопий XX века; не показались достойными премии ни А.Твардовский, подлинный, а не липовый демократ, истинный патриот, автор общенародной поэмы огромной эпической силы, ни Анна Ахматова. А ведь она, думаю, по своему поэтическому масштабу и значимости в русской поэзии ничем не уступает последнему, пятому, Нобелевскому лауреату! А уж её крестные человеческие муки не идут ни в какое сравнение с незначительными, по сути, биографическими неприятностями Бродского...
Ну, чем, скажите на милость, так уж пострадал он?! Глупым, а на самом-то деле - рекламным судом над ним? "Ах, какую биографию делают нашему рыжему"... Помните? В появлении же "поэта Бродского" как процессуальной фигуры были элементы и паноптикума, и случайности: его место мог бы преспокойно занять - с тем же результатом! - ещё добрый десяток имён тогдашних талантливых молодых поэтов. Тот же Горбовский, к примеру, или же Евгений Рейн. И я уж не говорю о поэте со всеми признаками гениальности - о Викторе Сосноре...
А уж что касается ссылки Иосифа Бродского в Архангельскую область... Помню, как на прогулке по комаровским тропинкам старый житель архангелогородчины и большой русский писатель Фёдор Абрамов мрачно буркнул: "Надо же, для меня - родина, а для него - ссылка..."
Можно, конечно, задать вопрос, - а почему это именно мне предназначался абрамовский комментарий? Отвечаю: как земляку. Мои корни, мои предки, моя юность до шестнадцати лет связаны с архангельской северной землёй (и Абрамов знал это), только он - с Пинеги, а я - с речки Синеги. И для нас жизнь в обычной северной деревне, рассматриваемая и подаваемая как наказание, была весьма и весьма обидной!
IV
Некоторые услужливые и определённым образом ангажированные критики поспешили объявить И.Бродского классиком русскоязычной поэзии. Не буду спорить... Хотя одну пришедшую на ум параллель приведу: московского модного художника Александра Шилова тоже называют готовым классиком. Он даже свой автопортрет весьма дерзко и многозначительно, как его предшественник, великий Карл Брюллов, заключил в такую же овальную раму. Не видели?! Очень, ну - прямо-таки очень похоже на классику…
Вообще следует прямо сказать, что обоснование литературных премий любого калибра - дело зыбкое (я даже не хочу подчёркивать, что зачастую - политическое). Вот примеры из совсем недавней истории: ну, кто может сейчас припомнить, - за что получили высшую советскую литературную награду - Ленинскую премию - писатели А.Аджубей, М.Бажан, Н.Грибачёв, Г.Гулям, Л.Ильичёв, Егор Исаев, П.Сатюков, Ю.Смуул? Ну, а "писатель" Леонид Брежнев?!
Разумеется, меня сразу же "поймают" воинствующие демократы и, тряся бородами, презрительно процедят через губу: так это же совковые писаки! Чего, мол, тут серьёзно толковать?
Хорошо, хорошо...Тогда поговорим именно о Нобелевской премии!
Напомню для забывчивых: первую премию по литературе в 1901 году получил француз Франсуа-Арман Сюлли-Прюдом. И, разумеется, среди примерно сотни нобелевских лауреатов в этом веке есть имена выдающиеся, общемировой известности. И называть их - сплошное удовольствие: Г.Бёлль, И.Бунин, К.Гамсун, Г.Гауптман, Дж.Голсуорси, А.Жид, А.Камю, Р.Киплинг, С.Лагерлёф, С.Льюис, Т.Манн, Г.Маркес, М.Метерлинк, П.Неруда, Р.Роллан, Ж.-П.Сартр, Г.Сенкевич, Дж.Стейнбек, Р.Тагор, У.Фолкнер, А.Франс, Э.Хемингуэй, У.Черчилль, М.Шолохов, Б.Шоу...
Какое созвездие имён!
С другой стороны...
Кому сейчас известны такие имена нобелевских лауреатов по литературе: К.Гьеллеруп, Г.Деледда, Х.Понтоппидан, П.фон Хейзе, В.фон Хейденстам или Х.Эчегарай-и-Эйсагирре? Можете ли вы ответить - писатель Н.Закс, нобелевский лауреат, - мужчина он или же женщина?!
Забавная подробность: среди граждан Швеции есть писатели-лауреаты Нобелевской премии: Э.Карлфельдт, П.Лагерквист (не путать с С.Лагерлёф!), Х.Э.Мартинсон, Э.Юнсон, но... этой награды не была удостоена всемирно известная и любимая детьми и взрослыми во всём мире великолепная Астрид Лингрен!
Добавлю: в Америке есть своя национальная, ничуть не менее престижная, чем Нобелевская, премия Пулитцера. Но кто из русских любителей поэзии знает, к примеру, пулитцеровского лауреата Стенли Кунитца?!
И наоборот: Бродский в Америке был отнюдь не Карл Сэндберг или Роберт Фрост, а просто - ещё один из многочисленных профессоров, балующихся странным занятием, слаганием стихов, да ещё на другом языке!
В одной из своих давних статей Д.Урнов крайне осторожно высказался о проблеме оценок и признания русскоязычного поэта языковой средой, чуждой его национальным корням. Это - очень серьёзный уровень для отдельного разговора. Но уже сейчас стало ясным, что восприятие поэзии Бродского у нас, в исконной языковой среде, существенно отличается от восприятия его поэзии эмигрантскими слоями в Америке, Англии, Франции и - разумеется! - в Израиле...
Другой, совершенно другой привкус у языка!
И в любом случае весьма печально, когда поэтические заслуги перед мировой литературой поэта, пишущего на русском языке, - в крайнем случае, на английском, но уж никак не на иврите! - определённые круги пытаются приписать некой иной кровной общности...
V
Можно ли критиковать лауреатов?! Это далеко не такой простой вопрос, как может показаться на первый взгляд...
В известные годы лауреатов Сталинских премий I или II степени критиковать было безусловно нельзя! За робкие, вполне литературные выступления против решения Главного Критика, олицетворявшего Высший Суд, вполне можно было загреметь на нары в Магадан...
Но и в наши дни, особенно в глазах окололитературных обывателей, лауреаты, да ещё Нобелевские, выведенные силой обстоятельств на внеземную орбиту, сразу же превращаются в неприкасаемых небожителей. Для нормальной, - размышляющей и анализирующей критики они становятся недоступной мишенью. Да ещё, не дай Бог, автор - еврей, тебя тут же обвинят в антисемитизме!
И всё-таки, - нельзя насаждать Поэзию силовыми методами, создавая какому-то из имён специальный режим "наибольшего благоприятствования", даже ежели этот некто и осенён высоким званием нобелевского лауреата!
Вспомним выражение Бориса Пастернака о насильственном внедрении Маяковского, как картошки при Екатерине... Кстати, в книге Юрия Карабчиевского "Воскресение Маяковского", - написанной задолго до вручения Нобелевской премии Иосифу Бродскому - есть такая любопытная мысль:
"...Стихи Бродского ещё более, чем стихи Маяковского, лишены образного последействия, и если у Маяковского это хоть и важный, но всё же побочный результат конструктивности, то у Бродского - последовательный принцип. Силу Бродского постоянно ощущаешь при чтении. Мы вновь и вновь перечитываем стих, пытаясь вызвать этот образ к жизни, и кажется, каждый раз вызываем, и всё-таки каждый раз остаёмся ни с чем. Нас обманывает исходно заданный уровень, который есть уровень разговора - но не уровень чувства и ощущения...
Мало кто знает Бродского наизусть, и только тот, кто учил специально. Трудно поверить, что после того, как так много, умно и красиво сказано, - так и не сказано ничего..."
Проверьте это ощущение Карабчиевского насчёт "образного последействия" хотя бы на примере известного стихотворения Бродского "Примечания папоротника". Вот две строфы из него: Пыль садится на вещи летом, как снег зимой.
В этом - заслуга поверхности, плоскости. В ней самой
есть эта тяга вверх: к пыли и к снегу. Или
просто к небытию. И, сродни строке,
"не забывай меня" шепчет пыль руке
с тряпкой, и мокрая тряпка вбирает шёпот пыли.
………………………………………………………
Внимай же этим речам, как пению червяка,
а не как музыке сфер, рассчитанной на века.
Глуше птичкиной песни, оно звончей, чем щучья
песня. Того, что грядёт, не остановить дверным
замком. Но дурное не может произойти с дурным
человеком, и страх тавтологии - гарантия благополучья.
Запомним из вышесказанного слова "не сказано ничего", "небытие". Как ни странно, с давно сказанными словами Ю.Карабчиевского почти совпадает высказывание критика Самуила Лурье, настроенного по отношению к Бродскому вполне дружественно:
"Стихи Бродского стали отчётом о пребывании в небытии. Свободный от других - свободен от жизни: он - Никто и со всех сторон окружён Ничем; он - точка зрения, часть речи, мозг, неумолчно перемалывающий бесконечность... Зрение наполняется пространством, холодным и чужим, как порыв тоски; ей откликается память; вот уже весь объём переживаемой данности освещён отчаянием; теперь, если посчастливится, её недоступный смысл удастся высказать непредвиденными комбинациями неизвестно откуда поступающих слов.
Стихотворение возникает на наших глазах из небытия и свободы..."
Внимательный, тонко чувствующий и умный критик С.Лурье принимает такое поэтическое состояние.
Я - нет.
VI
Хочу напомнить: я пишу не только и не столько о Бродском, сколько об определённом явлении, жизненной и философской позиции, ибо декларируемая свобода от окружающей действительности, этакая принципиальная внесоциальность - это тоже идейная позиция.
Можно ли в крутые исторические повороты, - при смене религий или общественных формаций считать свои новые верования и убеждения искренними и единственно правильными, а верования и убеждения других - непременно ошибочными и ложными? Наивный вопрос, - скажете вы? И теоретически, казалось бы, мы знаем на него ответ. Но... Сколько же раз мы спотыкались именно на этом самом месте! Сколько раз нам демонстрировали примеры существования (или даже силового навязывания!) только двух мнений: либо моё, либо - ошибочное и подлежащее, стало быть, остракизму и преследованию?!
Ещё совсем недавно Запад постоянно упрекал русских (советских?) писателей за то, что они пишут "по заказу партии". Как будто там, у них, в развитом деловом мире не существовало контрактов на определённый сорт кинопродукции, договоров на чётко ограниченный круг литературы, деловых соглашений с журналистами и прочей атрибутики купли-продажи! Под свободой же слова для России понималась только свобода критики и отрицания государственного строя… От известного возражения Михаила Шолохова, высказанного с трибуны писательского съезда о том, что да, пишут по заказу, но - по заказу сердца, с высокомерным непониманием отмахивались.
То есть, иными словами - отмахивались от понятия любой иной веры, кроме своей собственной! Какой же тут, извините, декларируемый плюрализм, какая, к чертям собачьим, свобода идей и мнений?!
Оказавшись на том самом "свободном Западе", И.Бродский с завидным постоянством писал обязательное стихотворение на Рождество, - и это считалось проявлением высокой духовности. Набралась целая книга!
Иудей, на языке православных каждый год пишущий стихотворение к протестантскому Рождеству - само по себе уже невероятное, трудно вообразимое сочетание!
Ангажированность - сложное, многослойное понятие, но в любом случае, будь оно идейным или же хорошо оплачиваемым - это проявление внутренней несвободы…
И в писании стихов на Рождество можно легко усмотреть точно такую же зацикленность или - ежели хотите - ангажированность, "писание по заказу", как и писание (в недавние времена) непременных праздничных виршей на 7 ноября...
Температура душевного горения примерно одинакова, а степень верования - либо равнозначно искренна, либо точно так же - равно сомнительна!
VII
Разумеется, у Иосифа Бродского, как у любой личности или пророка, окружённого нимбом, ореолом или сиянием нобелевского лауреата, имеются многочисленные поклонники и последователи. Последнее время мне попадается в руки множество стихотворных книжек, книжиц и компьютерных распечаток людей молодых и не слишком, пишущих "под Бродского". (Впрочем, точно так же, как в пятидесятые-шестидесятые годы было множество стихотворцев, пишущих под Маяковского...)
Нынешние же пишут не "лесенкой", а длинной-дли-и-и-нной строкой, видимо, наивно полагая, что такая длинная строка - самый короткий путь к "нобелевке"...
Я их ничуть не осуждаю.
Впрочем, предчувствую, что мне могут заметить: знаем, мол, вас, - "шестидесятничков", у вас - свои заморочки и свои между собой счёты!
Предвосхищая сей резон, обращусь за поддержкой своим размышлениям к литераторам другого, нового поколения...
Один из представителей критического племени младого, но уже хорошо знакомого - Виктор Топоров - человек язвительный и, на мой взгляд, достаточно независимый от "голоса крови" и от тусовочных пристрастий, в одной из своих статей, напечатанных в петербургской газете "Смена", высказал весьма и весьма любопытный пассаж по поводу двух имён принципиальных последователей и учеников И.Бродского. Цитирую его мысль: "О нет, не для славы... Тогда для чего
или для кого - это словотерзанье,
и духа боренье, и бездн разверзанье,
и полураспад бытия самого?
О нет, не для славы и не для любви -
о, не для любви! - это крови кипенье
в сиянии слов, это стихотворенье -
о славе и смерти, тоске и любви…
И я не пойму, для чего же оно -
и не для потомков, и не для любимой, -
и неуловимый его, нелюдимый
сокрыт адресат, а значенье темно...
Я привёл полностью ключевое стихотворение из большой подборки Алексея Пурина, открывшей июльскую книжку "Нового мира". И, должен признаться, полностью разделяю выраженное в нём недоумение: такие стихи действительно никому не нужны. Это не творчество, а всего лишь более или менее мастеровитая его имитация. Небездарный стихотворец Алексей Пурин, к сожалению, освоил безвдохновенную манеру своего учителя Александра Кушнера: он пишет не потому, что не может молчать, а потому, что хочет вновь и вновь подать голос..."
Утвердился я в правоте своих размышлений ещё и вот почему…
Ну, конечно же, конечно, к нашему горькому сожалению, - и родная почва может сделаться в какой-то момент горчащей, отравленной злобой и глупостью! И покажется, что на ней уже невозможно что-нибудь вырастить. Кому из нас не знакомо такое состояние?! И люди, и поэты в том числе тоже уезжают в поисках лучшей, плодородной земли. Тем более - обетованной...
Совсем недавно я получил - по давнему стихотворческому знакомству - две книжки стихов, изданных в Израиле двумя бывшими петербуржцами, уехавшими туда в поисках лучшей жизни с десяток лет тому назад. Я не хочу приводить их фамилии не только потому, что к обоим я отношусь по-человечески очень хорошо, но главным образом потому, что мне в данном случае важны не фамилии, а тенденции...
Я понимаю, что любая пересадка, будь то молодой черенок или развитой плодоносящий куст, всегда болезненна, и укоренение - ежели оно вообще происходит! - даётся с известными усилиями и риском. Вывод несомненен: авторам, пишущим, как никак, по неистребимой привычке, - на русском языке, не пошла на пользу Земля обетованная...
Внешнее, формальное мастерство, безусловно, сохранилось: и умение обстрогать фразу, и крепко сбить строфу, и оперить строку точной рифмой… А душа, как говорится, ушла, словно воздух из проколотого иглой детского воздушного шарика, и получились какие-то такие… ненастоящие стихи. А ведь одной ностальгией сыт не будешь!
Да, стихи были по-прежнему мастеровиты, но... как бы это выразиться поточнее и без желания обидеть авторов - безжизненны. Ушли приметы знакомого быта, закостенел без подпитки словарь, а реалии нового оказались невнятны, сумбурны, случайны… А книжки были похожими - толстенькие, аккуратные, глянцевитые... Как те самые гидропонные томаты на кусте в вестибюле токийского универмага.
Видимо, поэтам-то не всё равно, где пускать свои корни, и питает их, корни эти, родная земля, свой чернозём или супесь, подзол или суглинок, а не тщательно отмеренная гидропонная жидкость в стеклянном кубе…
VIII
Будет кстати напомнить, что последние годы XX века, после развала Союза, известный русский поэт Евг. Евтушенко зарабатывал деньги тем же самым способом, что и Иосиф Бродский: читал курс лекций по русской поэзии в небольшом американском колледже.
Но это было для него чисто внешним житейским обстоятельством: он есть и остаётся подлинно русским, национальным поэтом. По духу, по позиции, по незастывшему живому языку, короче говоря - по корням своим, цепко погружённым в наши временные реалии.
Самый большой поэт ограничен своим родным языком, и именно в этом языке он органичен (да простится мне этот нечаянный каламбур!), - как бы точно его ни переводили на другие языки. Разумеется - при несомненно положительном коэффициенте культурного взаимообогащения - в переводе, перетолмачивании, драгоманстве, интерпретейтерстве утрачиваются многие языковые "витамины", тонкости и особенности словаря. Поэтому и не может быть Поэта вообще, без своего национального своеобразия, несмотря даже на всеохватную, глобальную сеть Интернета.
Гидропонная техника выращивания сельскохозяйственных культур существует в её энциклопедическом толковании, гидропонная же поэзия в моём понимании - это стихосложение вообще, питающееся искусственным раствором, без заглубления своих корней в национальную почву: словарь, быт, традиции, культуру.
Поэзия И.Бродского, как и его принципиальных последователей, - космополитична, лишена национальных корней, и их творчество (стихи? эссе? томаты?) питается из абстрагированной, почти что виртуальной почвы, - литературным субстратом без цвета, вкуса и запаха...
Предвижу возражение: можно, мол, опираться не только на национальные, но и на общемировые ценности! Не спорю - можно, и это только обогащает, разнообразит, но никак не отменяет естественно воспринимаемой национальной основы.
Я уже упоминал: я пробовал те калиброванные плоды томатного дерева, выросшие на никакой почве... И они были - ну, прямо как настоящие! Да ведь они и есть настоящие, только ухищренно выращенные на почве стерильной и интернациональной. И это - в конечном-то счёте - никак не упрёк научно-техническому прогрессу, а повод к размышлению: вдруг пятый нобелевский "русскоязычный" лауреат - это прообраз будущей глобальной, безнациональной литературы, этакий красивый плод гидропонного дерева общемировой поэзии?!
И вот в связи с моими литературными и иными ощущениями и размышлениями как бы в поддержку собственным мыслям я хочу привести цитату из книги русского философа Николая Бердяева с весьма современным и широким названием "Судьба России". Вот что он, в частности, пишет:
"...Человек не может перескочить через целую ступень бытия, от этого он обеднел бы и опустел бы. Национальный человек - больше, а не меньше, чем просто человек, в нём есть родовые черты человека вообще и ещё есть черты индивидуально-национальные. Можно желать братства и единения русских, французов, англичан, немцев и всех народов земли, но нельзя желать, чтобы с лица земли исчезли выражения национальных ликов, национальных духовных типов и культур. Такая мечта о человеке и человечестве, отвлечённых от всего национального, есть жажда угашения целого мира ценностей и богатств. Культура никогда не была и не будет отвлечённо-человеческой, она всегда конкретно-человеческая, т.е. национальная, индивидуально-народная, и лишь в таком своём качестве восходящая до общечеловечности.
Совершенно не национальной, отвлечённо-человеческой, легко транспортируемой от народа к народу является наименее творческая, внешне техническая сторона культуры. Всё творческое в культуре носит на себе печать национального гения..."
Я знаю и остро ощущаю, - под каким небом и на какой почве выросло то или иное могучее поэтическое дерево: резной дуб Роберта Бернса, шелестящая под солёным ветром с океана пальма Пабло Неруды, пламенный фламбойян Николаса Гильена, крепкий красный клён Роберта Фроста или же плачущая рязанская берёза Сергея Есенина…
Секрет прост: нужно иметь корни в родной земле, - только тогда ветви твоего дерева могут обнимать весь мир!
Источник: http://www.litcenter.spb.su/statya.html

Карта сайта: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
 |

|
 |
ЛЕВ КУКЛИН
ГИДРОПОННАЯ ПОЭЗИЯ
I
...Хорошо помню, как нежарким майским утром на тихой Гинзе (главная улица Токио по воскресеньям закрывается для автомобильного транспорта и превращается в любимое место прогулок и покупок) я зашёл в прохладный аквариум огромного универсального магазина - и невольно остолбенел. Я надолго уставился на небольшое дерево в центре обширного вестибюля. Сражала его полная, абсолютная неподвижность - на нём не шевелился, не трепетал ни один зелёный листочек! И на всю свою почти трёхметровую высоту оно, это деревце, было увешано красными, аккуратными плодами, неотличимо одинаковыми по размеру, словно бы их специально вытачивали на токарном станке.
Можно было бы равнодушно скользнуть взглядом по глянцевитым зелёным веткам: "А, имитация!", но... Вечное любопытство плавающих и путешествующих пересилило, и я подошёл вплотную.
Нет, это была не имитация. Передо мной стояло настоящее деревце, точнее говоря - чудовищных размеров помидорный куст, ибо то, что я на первый взгляд принял за красные шарики, оказалось самыми настоящими томатами!
Но самым поразительным для моего восприятия опытного дачника-огородника представилась, так сказать, нижняя, обычно скрытая в земле, часть этого дерева: его корни, белые до неправдоподобия, подобно невиданному кораллу, были погружены в большой стеклянный куб, наполненный бесцветной прозрачной жидкостью.
И было это не на специальной показушной ВДНХ - Выставке Достижений Народного Хозяйства (кто сейчас помнит эту популярную в застойные годы аббревиатуру?!), а так - посреди повседневных житейских забот и торговой суеты японцы изобретательно и остроумно рекламировали - или, ежели угодно, - пропагандировали свои достижения в области сельского хозяйства... Или промышленности?!
Кстати сказать, особо недоверчивым и не верящим собственным глазам (в числе коих первоначально оказался и я!) плоды Помидорного Дерева давали попробовать, - как говорится, прямо с куста. Должен признать, что на вкус они ничем - ну, ничем! - не отличались от наших тепличных помидорчиков фирмы "Лето". Крепенькие, аккуратные, глянцевитые, независимые от родной почвы, выросшие на компьютерно рассчитанных и точно отмеренных дозах микроэлементов в специальном питательном растворе...
Говорят, гидропоника - агротехника будущего...
Но к чему, вольны вы спросить, этот подробный экскурс в тонкости выращивания томатов в данной литературоведческой статье?! Дело в том, что я-то как раз и пишу не о сельском хозяйстве, а об определенного сорта поэзии. Да, да! Той самой - гидропонной...
II
На мой взгляд - самым типическим, так сказать, - демонстрационно-показательным примером такой "гидропонной поэзии" является поэт Иосиф Бродский.
Да, я знаю, что он удостоен Нобелевской премии; точно так же многим достаточно хорошо известны пути, которые привели его к этой награде. Причины этого, коротко говоря, лежат во внетекстовой области. Древние говорили в подобных случаях: "Избавь нас от подробностей твоей судьбы, дай нам возможность оценить тебя по твоему таланту." Мудрая фраза!
В наши дни лучше других об этих обстоятельствах сказала Анна Ахматова: "Какую биографию создают нашему рыжему, - обронила она. - Как будто он сам специально об этом попросил..." Об этой фразе - с особым, прямо-таки нескрываемым удовольствием! - поведал в своей автобиографической книге многолетний личный секретарь Анны Андреевны - Анатолий Найман, считавшийся в те далёкие 60-е годы другом Иосифа.
Ахматова, разумеется, имела в виду суд над "тунеядцем, пишущим стихи" и его ссылку в Архангельскую... чуть не написал: губернию! И в самом-то деле: чем не Пушкин?!
Как я уже сказал выше, - тайные пружины репутации, создаваемой Иосифу Бродскому в наше шибко политизированное время, когда и поэты являются либо участниками различных шоу, либо мелкой разменной монетой чьих-то крупных интересов, никогда впрямую не связываются с подлинными достоинствами текста. О том, что искусственное, старательное подсаживание на пьедестал и разнообразные внетекстовые мотивации не являются определяющими для настоящей любви или хотя бы популярности стихотворца, может свидетельствовать нехитрый, но безошибочный опыт, который вы сами легко можете повторить. Я же проделывал его неоднократно…
Когда кто-нибудь, захлёбываясь от восторга, говорит вам, что Бродский для него важнее Пушкина, - спокойно попросите его прочесть наизусть хотя бы два-три стихотворения его кумира, - кроме, разумеется, затасканных всеми строк: "...на Васильевский Остров я приду умирать..."
Уверяю вас - в девяти случаях из десяти этот брызжущий слюной восхищения апологет сконфузится, съёжится и скиснет... Конечно - поступок прямолинейный, но результат всегда превосходный и недвусмысленный.
Замечу, кстати, что кто-то из "стариков" в пятидесятые годы применительно к "Василию Тёркину" Твардовского заметил, что подлинно общенародная известность приходит к поэту тогда, когда его стихи начинают читать люди, обычно стихов не читающие...
Конечно, положение И.Бродского в русскоязычной литературе было уникальным: еврей, живущий в Америке, читающий лекции на английском, а стихи свои пишущий на русском...
На этом самом месте, точнее - на этом определении позволю себе задержаться, чтобы чётко и недвусмысленно прояснить своё отношение к этому ныне широко употребляемому - с различными оттенками! - термину.
Для меня прилагательное "русскоязычный" не имеет никакой идеологической, политической, кровной или иной другой окраски; то есть я отношусь к нему как к чисто информационному, оценочному термину.
Поясню примерами: поэт Олжас Сулейменов, казах, живущий ныне в республике Казахстан и пишущий на русском языке, - безусловно, является русскоязычным писателем;
Чингиз Айтматов, гражданин республики Киргизия, долгое время живёт в Люксембурге, но пишет на русском языке (или, ежели хотите - сам себя переводит!) - кто он, как не русскоязычный писатель?
Расул Гамзатов, гражданин России, живущий в Дагестане, стал известен во многих странах в переводах именно с русского (кто на Западе знал экзотический аварский язык?!), поэтому, разумеется, воспринимается как русскоязычный писатель.
Почему же тогда этот самый общепринятый лингвистический термин, применяемый к поэту, живущему в англоязычной среде, полноправному гражданину Америки, пишущему на русском языке, - почему же этот термин приобретает какую-то смутную, оскорбительную, чуть ли не антисемитскую окраску? Видимо потому, что в этом искажённом толковании кто-то кровно заинтересован…
Кстати, вы не думали над тем, как называют в Израиле любого приезжего еврея, который не говорит на иврите? Франкоязычный, испаноязычный? Почему же тогда русскоязычный "олим" из Одессы - это, извините, хуже?!
Правда, схожий пример имелся в родной поэзии: Фёдор Тютчев, дипломат, два десятка лет прожил в Германии, в немецкоязычной среде. И вот загадка гения: из 360 его стихов две трети, а именно - 240! - созданы им в Баварии, на немецком юге, но многие из них, написанные о немецкой природе на русском языке, - стали любимыми, хрестоматийными стихами о… русской природе!
Быть может, разгадка сего парадокса в том внутреннем ощущении принадлежности, чувстве родины, земли, национальной почвы как внутренней духовной сущности, а не только языка? Сочинителя Гоголя, живущего в Риме, мы считаем вполне российским писателем, а вот Набокова, живущего в Париже, таковым считать как-то не получается…
Иосиф Бродский в восьмидесятых годах XX века - писатель в полном смысле этого слова космополитичный, так сказать - естественный гражданин мира. Я говорю об этом в житейском смысле слова и без малейшего осуждения. В нашем маленьком круглом мирке, с его достаточно развитыми транспортными коммуникациями, проблема физического пребывания, бытового жительства для пишущего человека вообще не возникает. Важно другое: какими земными соками он питается, в какую почву погружены его корни, какие дожди поливают его непокрытую голову, что именно он хочет сказать на родном языке...
Или - только описать... муху, как это виртуозно делает Бродский?!
Пока ты пела, осень наступила.
Лучина печку растопила.
Пока ты пела и летала,
похолодало.
Теперь ты медленно ползёшь по глади
Замызганной плиты, не глядя
туда, откуда ты взялась в апреле.
Теперь ты еле
передвигаешься, и ничего не стоит
убить тебя. Но, как историк,
смерть для которого скучней, чем мука,
я медлю, муха...
И так далее, двадцать одна главка по двенадцать строк, всего, стало быть, 252 строки потрачены стихотворцем на это увлекательное занятие!
А ведь это количество стихотворных строк составляет более чем половину от "Медного Всадника", в котором, как известно, всего 465 строк... Но как же различна в данном случае смысловая и идейная нагрузка на единицу стихотворной строки!
Разумеется, мне могут возразить, что "Муха" - это философская поэма, сознательная провокация, изысканная игра словом... В таком случае я предпочту игру откровенную: "Муха, муха, цокотуха, позолоченное брюхо…" Куда как виртуознее!
Вот я беру - для иллюстрации своей мысли - одно из лучших по мастерству стихотворений И.Бродского "Осенний крик ястреба" из его одноимённой книги, изданной в 1990 году:
|
|