Окна из алюминия в Севастополе — это новые возможности при остеклении больших площадей и сложных форм. Смотрите отзывы.
Страницы сайта поэта Иосифа Бродского (1940-1996)
Источник: http://josbrod.narod.ru/ff4.jpg Служевская Ирина. ТРИ СТАТЬИ О БРОДСКОМ. — М.: Квартет-Пресс, 2004. — 144 с. — Тираж не указан. 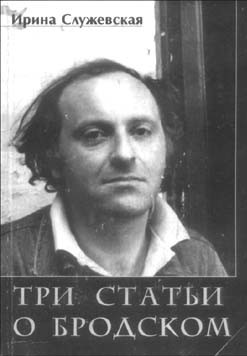
Это, конечно, не статьи. Чисто импрессионистично, эссеистично впечатление автора, что при разбивке на три одного сверхдлинного предложения Бродского (из «Разговора с небожителем») речь потеряет мощь. Что есть мощь? И можно сказать наоборот, что при та-ком разбиении речь приобретает спокойствие, размеренность, освобождаясь от доли истерики, свойственной затяжке говорения. И молчание небожителя — опять-таки не обязательно слабость. А фраза «по-видимому, сосуд, соединяющий стихи с сердцем пишущего, действительно, существует, и без него стихи превращаются в труху» (с. 103) кажется слишком перегретой даже для эссе. Это — ряд наблюдений. Но почему бы и нет? Особенно интересно обращение Служевской к поздним стихам Бродского, где просматривается отказ от речи, передача ее предметам. «Крики чаек требуют “конца грамматики“, отказа от “букв вообще”. Для Бродского прежних лет такое требование неслыханно» (с. 32). Превращение человека из говорящего в смотрящего и слушающего. Служба миру — взгляд со стороны. «Прозрение у Бродского, в отличие от классического варианта, <�…> опирается не на дар, сообщенный небом, а на отказ или, скорее, освобождение — от радостей и тяжестей земли» (с. 14). Достаточно подробно прослежена эволюция Бродского в направлении пустоты как области очищения, области абсолютной свободы. Интерес Бродского к бесчеловеческой белизне. Парадоксальность свободы в распаде, в падали — освободиться от целого даже такой ценой. Трансформируется субъект лирики: «…им становится никто. Что для лирики, чье существование зиждется на целостности и определенности лирического сознания, — просто взрыв, подрывание основ» (с. 20). Не будет никакого отождествления читателя с лирическим героем — не с кем. Персонаж — «принципиальная незаполненность, свобода от определений, корней, привязок к любым измерениям» (с. 21). Текучесть. Человек без свойств. (Впрочем, вряд ли у Бродского человека заставляет ощутить себя «совершенным никто» только «стремление освободиться от того, что все равно предстоит потерять по своей, а скорее — чужой воле» (с. 66). Служевская сама показала метафизические, а не политические основания этого самоопустошения.) «Мир, в котором героя нет, назван его портретом. Природа, существующая вне человека, есть форма его не-бытия и одновременно — его воплощение» (с. 28). И Бродский говорит о «виде издали на жизнь» — не о воплощении, а, скорее, о взгляде. Теперь автопортрет — предложение другим не взгляда на свое лицо, а своего взгляда на мир. Анонимность — свобода и переход во взгляд. Некоторые наблюдения Служевской выводяет на дальнейшие размышления. «Интонация наблюдателя, предлагающего читателю не выводы, а, прежде всего, факты, черты и детали реальности, — для Бродского способ поэтического существования, позволяющий раскрыть любые эмоции и самые ранящие истины острее и сильнее, нежели это возможно при другом — открытом, романтическом — выборе» (с. 76), — но почему это происходит? Не потому ли, что читающему предлагается не готовая чужая страсть, а пространство для его собственной страсти? Служевская касается столь острой темы, как ограниченность Бродского. Она называет его поэтику «поэтикой высказанности, охватывающей предмет бесконечными витками суждений, поэтикой, доверяющей прямому корневому значению своих орудий. Ни символики, ни напевности, ни ассоциативности (в мандельштамовском ключе), ни подтекста. Лобовой поток смыслов, напористо рвущихся к сути» (с. 47). Не показывает ли само обилие написанного о Бродском, что он принадлежит старому поэтическому миру, о котором можно говорить привычным языком (для нового мира этого языка еще нет)? «Риторическое ядро существует в каждом стихотворении Бродского. Его непререкаемость предполагает заведомую однозначность смысла, чему энергично и успешно сопротивляется генетика, родовая мощь стиха, нацеленного на многозначность и неисчерпаемость того же смысла» (с. 56). Возможно, Бродский осознавал это и стремился это преодолеть — не отсюда ли также и его движение к пустоте и голосам предметов? Но всякий действительно важный переход осуществляется медленно и не имеет определенной грани. Принадлежащее к поздним стихам «На столетие Анны Ахматовой» выглядит еще «старым Бродским» — здесь приобщение к вечности осуществляется в духе горациевской еще традиции, через речь. Элегантно объяснение инверсий. «Сравнение “за сегодняшним днем стоит неподвижно завтра, как сказуемое за подлежащим” говорит о неприязни Бродского к обоим типам прочной связи явлений (времени и грамматике). В сущности, это объяснение не только философии, но и поэтики Бродского, где любовь к инверсиям прочитывается как восстание против установленного порядка слов» (с. 86). Важно рассмотрение любого текста в контексте всего сказанного поэтом, всякой идеи — в связи с другими. «Если категория пустоты у Бродского предстает достаточно близкой к аналогичным категориям дзэна, то это сходство экзистенциального опыта, <�…> точка пересечения духовных путей, затем расходящихся в разные стороны» (с. 29—30). Действительно, у Бродского и речи нет об иллюзорности личности, и очень скептическое отношение к разного рода абсолютам. Третья статья, о цикле «Часть речи», понимаемом как преодоление боли от разлуки, растворение ее в языке и предметах, весьма описательна — вплоть до построчного пояснения тек ста, пересказа, чреватого упрощением. «Наша цель — пережить стихи как опыт наслаждения» (с. 58), то есть для хорошего школьника, заинтересовать. Но и в этой простоте есть с чем поспорить. «Говоря “Седов”, Бродский, конечно, имеет в виду ледокол» (с. 70). Но почему не самого полярника, чье тело чернеет на снегу? Ледокол-то, в конечном счете, из льдов выбрался. Татарские мотивы в третьем стихотворении цикла явно отсылают к фамилии адресата — Басманова. Басма — ханская печать, восточная краска для волос. «Одичавшее сердце все еще бьется за два» — почему эту строку Бродского Служевская сводит к описанию сердечного приступа? Может быть, это сердце, привыкшее биться и за сердце той, с кем рассталось, — и не желающее эту привычку терять? В седьмом стихотворении цикла явственно звучит мотив не только ностальгии по детству, но и честности в открытом пространстве. Конец семнадцатого стихотворения можно соотнести не с убийством, а с самоубийством — лужей крови и суетой около вскрывшего вены. Завершение цикла Служевская трактует чрезмерно оптимистично: «…свобода и стихи, стихи и свобода — радостный, верный, нежданный конец сюжета» (с. 134). Но в последнем стихотворении оледенение, которое в начале цикла было снаружи, пробралось внутрь человека: «Поскорей бы, что ли, пришла зима и занесла все это — города, человеков, но для начала — зелень». Такова цена свободы по Бродскому. «Необитаемость, несущая сетчатке свободу от отражений, как душе свободу от земных связей, делает воздух домом поэта. Место родины заменяется тотальной пустотой как условием свободы духа» (с. 16). Пустоту Бродский проверял на обитаемость еще в «Осеннем крике ястреба» — «астрономически объективный ад». Но, как показывают также и наблюдения Служевской, Бродскому все-таки во многом удалось освоить это пространство. Александр Уланов Источник: http://magazines.russ.ru/nlo/2005/75/kn36.html 
Деград |

