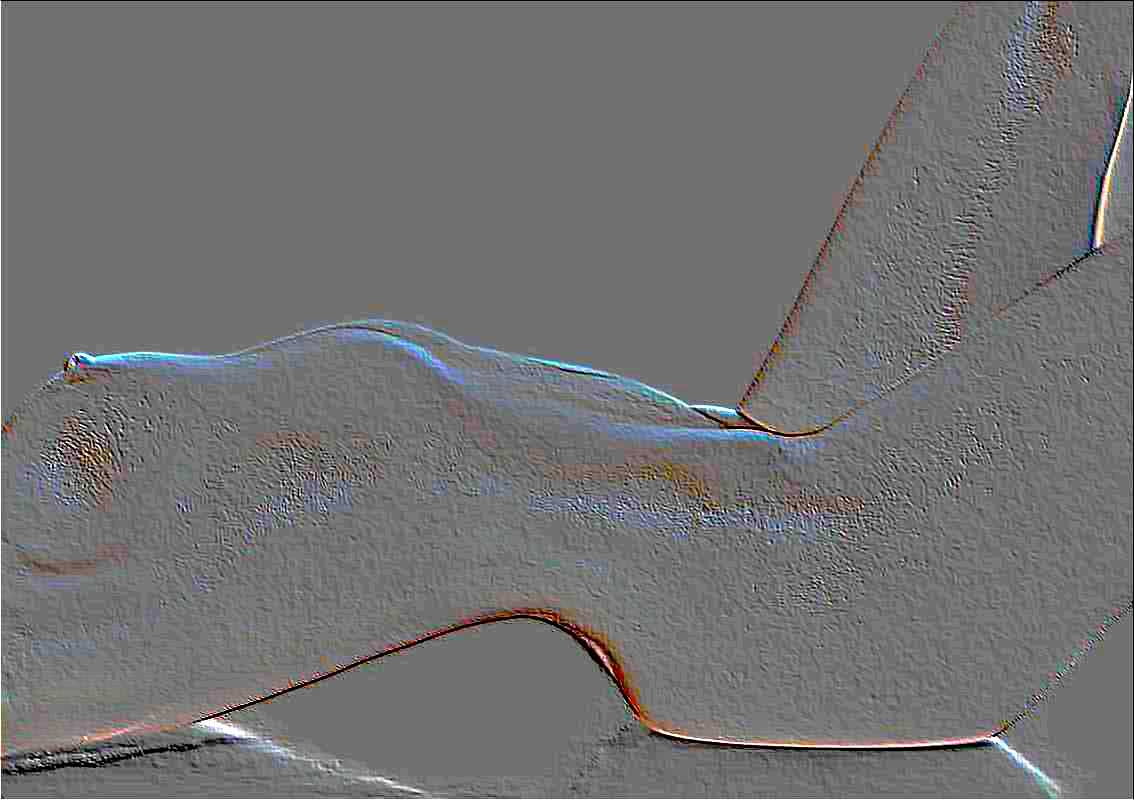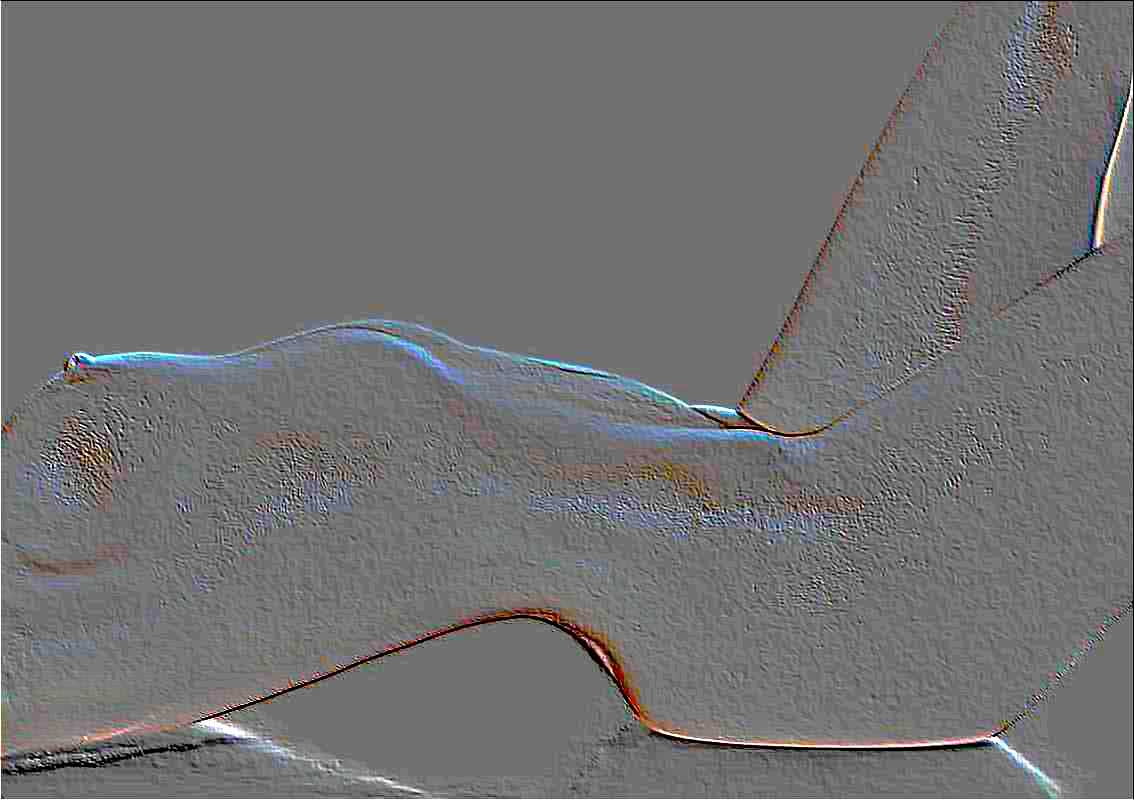Мирьяна Петрович-Филипович (Белград)
МОТИВ "КОНЦА" В ЦИКЛЕ СУМЕРКИ БАРАТЫНСКОГО И СБОРНИКЕ УРАНИЯ БРОДСКОГО
Больше века прошло со времени, когда Баратынский начал писать о "железном веке" и "последнем поэте", и когда своими пророческими стихами он предъявил победу "корыстных сердец" над "поэзии ребяческими снами".[1] Как эхо на его стихи, свыше ста сорока лет после цикла Сумерки, перед нами появился сборник Урания Бродского.
Этот сборник навсегда наглухо закрыл круг вещих предреканий о гибели "души поэта". О Баратынском, как начале этого пути, и Бродском, как его логичном конце, напоминают нам многие писатели, даже сам Бродский. Анатолий Найман, высоко ценивший поэзию Баратынского, считает, что стихотворение Бродского Осенний крик ястреба - "это вариация на тему "Осени" и версия "Осени" Баратынского".[2] Томас Венцлова же напоминает, что "Бродский постоянно вчитывался в любимых авторов" и, среди прочих, одним из любимых авторов лауреата нобелевской премии называет Баратынского.[3] Сам Бродский усматривает в стихах Баратынского "прочувствованность мысли" и подчеркивает, что он "в жанре философской поэзии нередко, кажется, даже превосходит своего великого современника Пушкина", не устраняясь даже от такой оценки: "В целом стихи Баратынского самые умные из всех написанных по-русски в его веке".[4]
Уже при беглом чтении сборника Урания бросается в глаза интересное обыгрывание Бродским знаменитых строк поэтического завещания Баратынского Мой дар убог и голос мой не громок; в стихотворении Послесловие поэтический субъект Бродского с иронией сообщает: "Мой голос глух, но думаю, не назойлив".[5] Однако в данной работе хотелось бы обратить внимание только на философские мотивы цикла Сумерки, отклики которых наблюдаются у Бродского. Само название сборника Урания заставляет обратиться к Сумеркам Баратынского. В одном из ключевых стихотворений цикла Баратынского, Последний поэт, в котором ярко представлены философские взгляды поэта, читается: "Поклонникам Урании холодной Поет, увы! он благодать страстей" (275). Поднимается вопрос, не в этом ли стихотворении Бродский нашел одну из основных тем для сборника Урания? не назвал ли этот сборник так, вдохновленный размышлениями именно Баратынского? Попробуем ответить на этот вопрос.
Темы, которые волнуют Баратынского, присущи также Бродскому, можно даже сказать, что Бродский эти философские мотивы развивает, углубляет и приводит к определенному концу. Весь мир и поэзия Бродскому представляются умирающими. И только он один, как "последний поэт", дышит и еле слышен его пульс (ср. в Литовском ноктюрне: Томасу Венцлова: "Миру здесь о себе возвещают, на муравья Наступив ненароком, невнятной морзянкой Пульса, скрипом пера" - 57). Но чтобы понять созданный Бродским образ поэта, необходимо пристально всмотреться в поэтический субъект Баратынского в Сумерках. Каким видит поэта Баратынский? Много раз в ключе романтического идеала Баратынский говорит: "Нежданный сын последних сил природы, Возник поэт: идет он, и поет" (Последний поэт - 274), или же: "И устремлялися все взоры на него И силой слова своего Вития властвовал народным произволом: Он знал, кто он; он ведать мог, Какой могучий правит Бог Его торжественным глаголом" (Рифма - 302). Поэт - пророк, устами которого вещает сам Бог. Однако в стихотворении Мудрецу Баратынский не прочь усмотреть в поэте также философа, который "из ничтожества" вызван в мир "творчества словом тревожным”, чтобы примирять бурную жизнь с холодною смертью (284). Это призвание поэта. Бродский это понял и принял свой жребий: “Скрипи, мое перо, мой коготок, мой посох"; "Скрипи, скрипи перо! переводи бумагу!” (Пятая годовщина (4 июня 1977) - 73). В стихотворении Пьяцца Маттеи еще убедительней звучит "смирение" поэта с собственной участью, ибо ее не избежать: "Сорвись все звезды с небосвода, Исчезни местность, Все ж не оставлена свобода, Чья дочь словесность. Она, пока есть в горле влага, Не без приюта. Скрипи, перо! Черней бумага! Лети минута!" (96).
И дело не только в том, что он неотъемлем от Слова. Благодаря ему, слову (причем его, кирилличному слову), Бродский так же, как и Баратынский, видит и ведает как прошлое, так и будущее. Иными словами, он выписывает и прошлое и будущее: "[...] кириллица, грешным делом, Разбредаясь по прописи вкривь ли, вкось ли, Знает больше, чем та сивилла, О грядущем. О том, как чернеть на белом, Покуда белое есть, и после" (Эклога 4-ая (Зимняя) - 123); подобное читаем также в его Римских элегиях: "О своем – и о любом – грядущем Я узнал у буквы, у черной краски" (113). Зная и ведая все, лирический субъект Бродского идет дальше Баратынского, он переливается в свои пророчества, он напрочь, навсегда спаян со своей поэзией: "Право, чем гуще россыпь Черного на листе, Тем безразличней особь К прошлому, к пустоте В будущем. [...]" (Строфы - 33). Душа вылилась на бумагу, тела уже нет и "если что-то чернеет, то только буквы", как утверждает поэт в Стихах о зимней кампании 1980-го года (99). Баратынский вызван из "ничтожества" силой слова и сам он стал этим словом, стал его неустанным жрецом в подлунном мире, где властвуют "и смерть, и жизнь, и правда без покрова": "Все мысль да мысль! Художник бедный слова! О жрец ее! тебе забвенья нет!" (293). Бродский же вступает в более близкие отношения с Музой. Его уже не удовлетворяет участь несменного жреца. Поэтому в Литовском ноктюрне он протестует, он готов прекратить служение Музе: "Муза, можно домой?" (64), несмотря на то, что порою слышит ее невнятный лепет, как, например, в Пятой годовщине ("Я слышу Музы лепет" - 73), или же приказ: "Дай мне чернил и бумаг, а сам уйди Прочь!" (Квинтет - 85).
Хотя и дар, которым обладают оба поэта, подчас невыносим, они чувствуют, что они - избранники, что ихнее "слово" все "земное перешло". И на "глагол", который в Осени Баратынского "страстное земное перешел" (300), Бродский откликается в Литовском ноктюрне "сказуемым", которое "уходит за поля", а потом уже хочет в свой рот "нащупав язык, на манер серафима Переправить глагол" (58). Но в этих высотах от него остается только одинокая душа, ибо "свой подвиг" она "свершила прежде тела", как в стихотворении Баратынского На что вы, дни! Юдольный мир явленья (288). Тело остается в пределах материи, на Земле, оно является лишь продолжением вещей: "Тело, застыв, продлевает стул" (Полдень в комнате - 20). Оно не обладает смыслом, оно принадлежит тленному миру, оно бренное, оно напоминает о смерти. Однако Бродский не чуждается смерти, не сопротивляется смерти, напротив, он ее обнаруживает везде и во всем, она повсюду. В Строфах он даже иронизирует над "грядущим": "Разговор о грядущем - Тот же старческий бред" (36). Это его не пугает. Он как будто шагнул в неосязаемое Ничто и оттуда смотрит на голубую планету, запечатляя то, чего уже не миновать. Так или иначе не миновать потерь: послезавтра сулит человеку стать "инвалидом", потерявшим "конечность, подругу, душу", что и "есть продукт эволюции" (Элегия - 90). Даже дети нашей эпохи "смутили б грядущий мир" свирепостью своих игр и безутешным плачем (Сидя в тени - 150). Они резко отличаются от "играющего младенца" (то есть "ветреной младости") из Осени Баратынского (298), так как он не может быть свирепым: предчувствовать ужас будущего выпало на долю одного только поэта.
Бродский не щадит никого. Смерть приходит в виде холода. "Зима вещей" за собой несет "оледенение рабства", которое "наползает на глобус" (Стихи о зимней кампании 1980-го года - 99). Душа человека окончательно оледенела. Параллель со строками из Последнего поэта Баратынского напрашивается сама собой: "Блестит зима дряхлеющего мира, Блестит! Суров и бледен человек!"; "И по-прежнему блистает Хладной роскошию свет: Серебрит и позлащает Свой безжизненный скелет" (274; 276). Тем не менее Баратынский, наподобие Екклесиаста, в стихотворении Осень призывает ко смирению ("Со смертью жизнь, богатство с нищетой - Все образы годины бывшей Сравняются под снежной пеленой, Однообразно их покрывшей, - Перед тобой таков отныне свет, Но в нем тебе грядущей жатвы нет!" - 300-301), тогда как Бродский чуждается этого, - он четко утверждает факт наступающего конца. Бродского не удовлетворяют философские размышления о "наступающей зиме" и вечном возвращении одного и того же в преддверии смерти, он снижает возвышенные мысли о конце, ибо конец для поэта уже не окутан тайной. К концу стремится время, поскольку конец "светлей" грядущего; или же словами Бродского: "Тысячелетье и век Сами идут к концу, Чтоб никто не прибег К бомбе или к свинцу. [...] Будущее черно, Но от людей, а не Оттого, что оно Черным кажется мне" (Сидя в тени - 153).
Как же это случилось? А ведь первый толчок дал Баратынский! Еще в Последнем поэте он отметил, что век, его век "шествует путем своим железным" (274). В Рифме же он без обиняков говорит, что чувствовал себя среди людей, как "среди безжизненного сна, Средь гробового хлада света" (303). Поэтому мысль Бродского о "холодной смерти" не удивляет, она скорее приводит к выводу, что поэт замыкает круг, то есть приводит к концу идею Баратынского.
Однако в этом "холодном мире" поэты чувствуют себя одинокими и уединенными. Для Баратынского поэт не что иное, как "звезда небес", которая "в бездонность утечет" (Осень - 300). Бродский, варьируя античный мотив поэта-звезды, переломленный через Баратынского, не без иронии утверждает, что все остается таким же, что сам он, его взгляд "станет назад посылать" все, что вобрал в себя, "как звезда через тыщу лет, Ненужная никому, Что не так источает свет, Как поглощает тьму" (Полдень в комнате - 26). Подобно образу поэта у Баратынского, сравниваемом с земледелом, что "сметав в стога скошенный злак долин, С серпом он в поле поспешает" (Осень - 296), Бродский в стихотворении Ты узнаешь меня по почерку. В нашем ревнивом царстве создает образ поэта, обыгрывая строки Баратынского: "[...] Знать, погорев на злаках И серпах, я что-то все-таки сэкономил" (179); с другой же стороны, в поэтическом тексте Снег идет, оставляя весь мир в меньшинстве он как будто опровергает самого себя, утверждая: "За душой, как ни шарь, ни черта" (161). И снова, обращаясь к словам Баратынского в Мудреце: "Нам, из ничтожества вызванным творчества словом тревожным" (284), Бродский присоединяется к Баратынскому в его размышлениях о назначении поэта: "О, сколько света дают ночами Сливающиеся с темнотой чернила!" (Римские элегии - 115).
Здесь необходимо обратить внимание на значение, которое Бродский придает поэтическому слову. Бесспорно, опору для своей жизни и участи, постигшей не только его, но и от людей "черное будущее", он находит в словах. Он по словам гадает, как сиввила, ибо "о своем - и о любом - грядущем" он "узнал у буквы, у черной краски" (Римские элегии - 113). Тот же принцип, принцип жизнеутверждающей силы слова, силы жизнедаятельного слова провозглашает и Баратынский в Мудреце, ибо "вызванным творчества словом" "жизнь для волненья дана" (284). Но тут нельзя не задаться вопросом: что это за слово и какой силой обладает оно? И откуда такая вера в силу слова? Тема эта древняя, и приводит нас к одному источнику – к Новому Завету, вернее, к Евангелию от Иоанна, начинающемуся словами: "В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог". И слово это представляет собой жизнь и свет, оно начало начал. В данном ключе следует толковать также поэтическое слово. Оно наделено божественной природой, оно не подлежит тленью. Поэтому если весь зримый, материальный мир и пришел к "зиме" своего существования, мир Слова остается нетронутым - его существованию ничто не угрожает. Именно этому посвящены сочинения двух поэтов, именно в этом пытаются нас заверить своими стихами Баратынский и Бродский.
На этом, однако, не заканчиваются их размышления о конце как об "оледенении" всего существующего и преодолении данного состояния поэтическим творчеством. Когда заходит речь о конце мира в сочинениях двух поэтов наблюдаются одни и те же мысли; как какой-то вещий сон, оба они проталкивают идею о том, что в конце - море (тот же океан), вновь заполняющее все земное пространство, вроде первозданных вод, порождающих мир. Так как море мифологически связано и с плодородием, и с разрушением, от людей зависит каким оно будет, как будет действовать. Баратынский всего лишь затронул эту тему в Последнем поэте: "Человеку непокорно Море синее одно"; "Но в смущение приводит Человека вал морской, И от шумных вод отходит Он с тоскующей душой!" (275; 276). У Баратынского мир еще не выбрал путь к смерти, у Бродского этот путь неотвратим: "Всякий живущий на острове догадывается, что рано Или поздно все это кончается, что вода из-под крана, Прекращая быть пресной, делается соленой" (В Англии - 76); "Только вода, и она одна, Всегда и везде остается верной Себе - нечувствительной к метаморфозам, плоской, Находящейся там, где сухой земли Больше нет" (Сан-Пьетро - 84). Надо заметить, что и этот мотив можно связать с Библией, то есть с ветхозаветным потопом, который послал Бог в наказание людям за их грехи. И тут круг мира окончательно, неумолимо закрывается: дальше "вечной, мелкой, бесцветной ряби", в виде которой стушевывается "патетика жизни с ее началом, Серединой, редеющим календарем, концом" в Сан-Пьетро, ничего нет (84).
Философские мотивы, присущие обоим поэтам, этим не исчерпаны. Необходимо напомнить, что исследователи уже указывали на связь Бродского и Баратынского[6], в частности на отклики философского стихотворения Запустение в поэзии Бродского.[7] Однако Бродский не остановился на этом, он развивал и другие мотивы поэта-философа Баратынского, относящиеся не только к эсхатологическим вопросам конца, но также жизни, поэзии, Бога, о чем пойдет речь в иной из работ.
ПРИМЕЧАНИЯ
[1] Е.Баратынский, Стихотворения. Поэмы, Москва 1983, 274. - Далее по этому изданию с указанием лишь снраницы в тексте.
[2] Сгусток языковой энергии. Интервью с Анатолием Найманом 13 июля 1989 года, Ноттингем, в: В. Полухина, Бродский глазами современников, Санкт-Петербург 1997, 37.
[3] Развитие семантической поэтики. Интервью с Томасом Венцловой 15 декабря 1990, Нью-Хейвен, в: Там же, 271.
[4] И.Бродский, Из заметок о поэтах XIX века, в: Иосиф Бродский: труды и дни, Москва 1998, 38. - Ср. также высказывание Бродского, что в "волшебном хоре" каждому из его участников предназначалась роль одного из поэтов пушкинской плеяды, и что он, "со своей меланхолией, видимо, играл роль Баратынского" (С. Волков, Диалоги с Иосифом Бродским, Москва 1998, 227).
[5] И.Бродский, Урания, Анн Арбор 1987, 187. - Далее по этому изданию с указанием лишь страницы в тексте.
[6] Исследователи лишь попутно затрагивали отношения Бродского и Баратынского, когда речь заходила о наследии пушкинской традиции в творчестве Бродского, как, например, в книгах Я. Шимак-Реиферовой (J. Szymak-Reiferowa, Czytając Brodskiego, Kraków 1998, 43-46) или А. Ранчина (А. Ранчин, Иосиф Бродский и русская поэзия XVIII - XX веков, Москва 2001, 107). Пожалуй, наиболее подробным исследованием поэтического диалога двух поэтов остается статья Е. Курганова, посвященная элегическому наследию в творчестве Бродского (Е. Курганов, Бродский и искусство элегии, в: Иосиф Бродский: творчество. личность, судьба, Санкт-Петербург 1998, 166-185).
[7] См. об этом в: К. Ичин, "Запустение" Баратынского в поэзии Бродского, в: Возвращенные имена руссской литературы. Аспекты поэтики, эстетики, философии, Самара 1994, 178-185.
ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКТОРА "БР":
Материал размещен с разрешения автора.
|