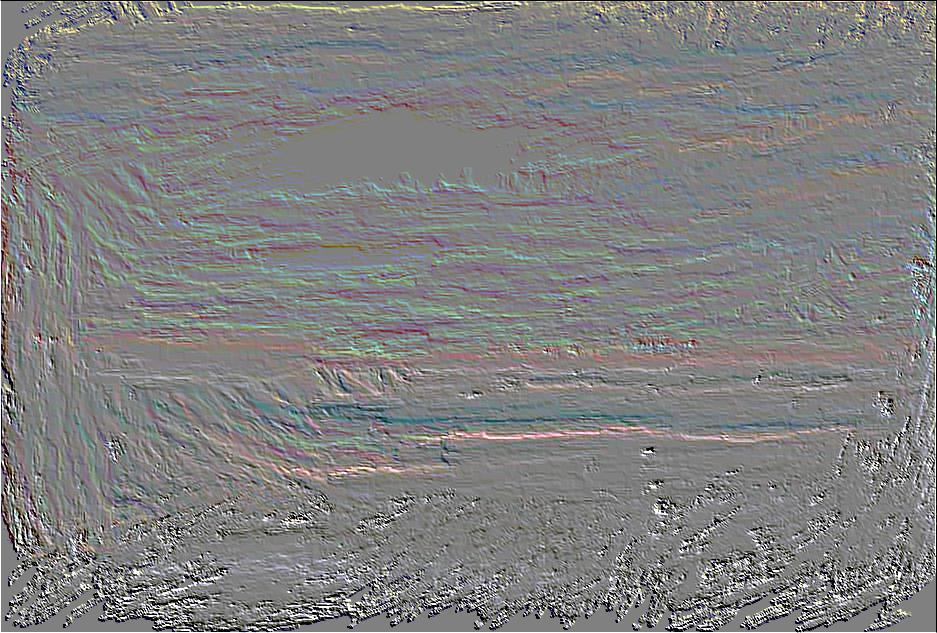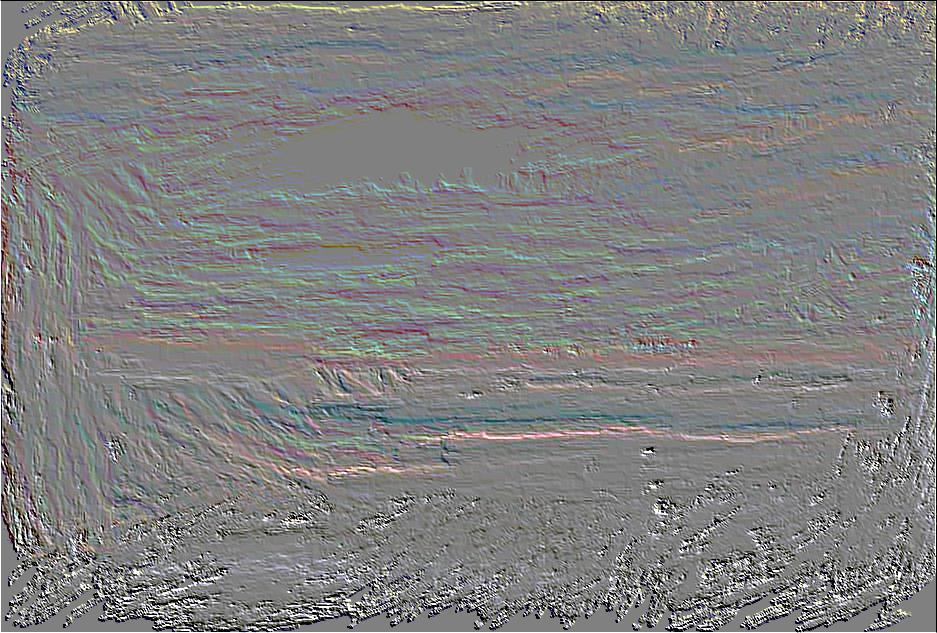|
Специальные ежемесячные бизнес-журналы для руководителей крупных предприятий России и СНГ
|
 |
Окна из алюминия в Севастополе — это новые возможности при остеклении больших площадей и сложных форм. Читайте отзывы. Так же рекомендуем завод Горницу.
Страницы сайта поэта Иосифа Бродского (1940-1996)

Иосиф Бродский с женой.
Компьютерная графика - А.Н.Кривомазов, Москва, июль 2009 г.
О духе и стиле эссеистской прозы И.Бродского о М.Цветаевой
Жанр эссе, получивший в литературе ХХ-го – и прежде всего Серебряного – века интенсивное развитие, обусловленное общими тенденциями обновления жанрового мышления, занял заметное место и в творческом наследии И.Бродского – художника, многими нитями связанного с поэтической культурой начала ушедшего столетия.
Жанр эссе, получивший в литературе ХХ-го – и прежде всего Серебряного – века интенсивное развитие, обусловленное общими тенденциями обновления жанрового мышления [1], занял заметное место и в творческом наследии И.Бродского – художника, многими нитями связанного с поэтической культурой начала ушедшего столетия. Его эссе, обращенные к многоразличным явлениям русской и зарубежной литературы, стали сферой самопознания их автора, его диалога с культурной традицией. Две работы Бродского о Цветаевой ("Поэт и проза", 1979; "Об одном стихотворении", 1980), будучи ярчайшими образцами жанра, высветили характерные особенности исследовательской методологии поэта-эссеиста, многие его программные суждения о сущности искусства, о природе художественного языка. Велика их ценность и в плане постижения творческой индивидуальности Цветаевой, привлекав-шей Бродского и как поэта [2] . Если первое эссе представляет обзорное рассмотрение автобиографической прозы Цветаевой как прозы поэта с выходом на широкий круг проблем психологии творчества, законов художественного текстопорождения и др., то вторая работа (гораздо большая по объему) во многом продолжает эти эстетические построения, но основана на углубленном анализе одного текста – стихотворения "Новогоднее" (1927).
Эссе о прозе Цветаевой в качестве стержневого направления авторской мысли имеет суждения о соотношении прозы и поэзии (проблема для литературы ХХ в. необычайно актуальная) не только как двух художественных форм, но и как различных типов творческого мышления, способных, однако, к контаминации в сознании творца. По Бродскому, в цветаевской прозе происходит "перенесение методологии поэтического мышления в прозаический текст, развитие поэзии в прозу" [3] . Обращаясь к сфере психологии творческого процесса, автор эссе выдвигает оппозицию "линейного (аналитическо-го)" и "кристаллообразного (синтетического)" типов развития художественного мысли, характерных соответственно для поэзии и прозы. В самом строении прозаической фразы у Цветаевой Бродский тонко подмечает элементы собственно "поэтической технологии": образная ассоциация, "звуковая аллюзия", "корневая рифма", "предельная структурная спрессованность речи"… Само обращение поэта к прозе автор глубоко объясняет как с точки зрения внутренних эстетических закономерностей, ритмов жизни творческой индивидуальности, так и в аспекте психологии творчества, проблемы поиска художником адресата, ибо, по мысли автора, в прозаическом слове "есть всегда некий мотив снижения темпа, переключения скорости, попытки объясниться, объяснить себя".
Для Бродского-эссеиста характерно соединение раскованного, местами разговорного стиля, метафорических ассоциаций (всегда, впрочем, прозрачных) и строгого литературоведческого анализа. Ведь авторская мысль вмещает в свое поле зрение как эмпирически воспринимаемые стороны произведения, так и интуитивные прозрения о таинственной связи искусства и действительности, манеры художника и его философии, жизненной и посмертной судьбы. Скрупулезный, отчасти статистический анализ структуры цветаевской речи, ее ритмики, интонации, отраженных в пунктуационном оформлении, – и в эссе о прозе, и в работе о "Новогоднем" свободно сочетается у Бродского с онтологическими обобщениями, звучание которых, как нередко в поэзии самой Цветаевой, заостряется в парадоксе: "…Настолько трагичен был тембр ее голоса, что он обеспечивал ощущение подъема при любой длительности звучания. Трагизм этот пришел не из биографии: он был до…". Приведенное суждение становится для Бродского отправной точкой дальнейших размышлений о бытийной сущности художественного языка, "голоса" поэта.
Художественный язык видится Бродскому в качестве ценностной, мыслящей и саморефлексирующей субстанции. Программное значение обретают здесь определения литературы как "лингвистического эквивалента мышления", мысль о том, что язык детерминирует сознание "помимо бытия", что применительно к Цветаевой, с ее, как отмечает Бродский, опираясь на статью "Поэт и время", "феноменально обостренной языковой чувствительностью", особенно актуально. Автор эссе обращается к интуитивным, бессознательным уровням творческой личности, на уровне "слуха" ощущающей дух своего языка. Не внешние эмпирические обстоятельства, но "голос", "звук" художественной речи способен "вести" за собой "биографию", предопределять судьбу творца.
В самом трагедийном "звуке" цветаевского слова, пронизанном духом фольклорной стилистики плача, причитания и раскрывающем, насколько "миропорядок трагичен чисто фонетически", явлена, по мысли Бродского, онтологическая "заинтересованность самого языка в трагическом содержании". Подобная терминологическая парадоксальность свойственна эссеистской манере Бродского. Такие обороты, как "отрицание языком своей массы и законов", "заинтересованность языка", "самосознание языка", "процесс самопознания языка", проясняют суть эстетической концепции Бродского, который именно в не до конца контролируемой самим художником "интуиции языка" выявляет содержательные глубины, всегда ускользающие при идеологизированных умозрительных построениях.
В самом цветаевском "звуке" "безадресной речи", "склонном к трагедийности", автор нащупывает сердцевину ее поэтической философии – "философии дискомфорта", "проповедь… окраинных ситуаций", что, как полагает Бродский и о чем подробнее он будет вести речь в эссе о "Новогоднем", не вполне вписывалось в традицию русской литературы. Осуществленное Бродским углубление на потаенные уровни как мироощущения художника, так и таинственной "логики" и "интуиции" его языка, позволяет дать емкое и парадоксальное обобщение о судьбе "героини" эссе. Заключительный абзац этой работы, при сохранении свойственного произведению в целом уравновешенного аналитизма, – становится одновременно лирически пристрастным психологическим портретом поэта; выдержанным в поднимающейся интонации прочтением целостного "текста" ее судьбы: "Изоляция ее – изоляция не предумышленная, но вынужденная, навязанная извне: логикой языка, историческими обстоятельствами, качеством современников. Она ни в коем случае не эзотерический поэт – более страстного голоса в русской поэзии 20 века не звучало…".
Второе эссе обращено к посвященному памяти Рильке цветаевскому стихотворению "Новогоднее". Став примечательным образцом скрупулезного монографического анализа поэтического текста, эта статья явилась в то же время закономерным развитием намеченной ранее эстетической концепции, касающейся, по выражению самого Бродского, "психологии и методологии творчества".
В качестве экспозиции выступает здесь емкий обобщающий очерк о специфике жанра поэтического реквиема, в котором, как убежден автор, "трагедийная интонация всегда автобиографична". В этой исходной посылке обозначается главный предмет внимания эссеиста: это, как и в предыдущей работе, психологические аспекты творческого акта в соотнесенности с лин-гвистическими закономерностями текстопорождения. Трагедийное восприятие Цветаевой смерти австрийского поэта усилилось, как отмечает Бродский, связью его творчества с "языком детства" самой Цветаевой – немецким, вследствие чего эта смерть "оказывается косвенным ударом – через всю жизнь – по детству". Глубинное проникновение в корни лирического переживания ведет автора эссе дальше – к интерпретации самого феномена смерти поэта с точки зрения философии языка: "Это прежде всего драма собственно языка: неадекватности языкового опыта экзистенциальному". Обращение Цветаевой к тайне загробного бытия ушедшего поэта, к размышлениям о возможной новой ипостаси его творческой личности ("Райнер, радуешься новым рифмам?"), о "том свете", что "не без-, а всеязычен", Бродский рассматривает как стремление автора реквиема увидеть мир глазами самого адресата скорбного послания и, что особенно видно в цветаевской строчке "всех ангельский родней", прорваться из пут несовершенного земного языка к "высоте надязыковой, в просторечии – духовной". Развивая прежний взгляд на соотношение искусства и действительности, Бродский находит в цветаевском произведении отталкивание от "физической реальности" повседневного существования и высказывает мысль о том, что подлинное лирическое напряжение возможно как раз в самоощущении на грани небытия, эмпирической "нереальности": "Поводом к стихотворению обычно является не реальность, а нереальность: в частности, поводом к "Новогоднему" является апофеоз нереальности – и отношений, и метафизической: смерть Рильке… Чем больше цель движения удалена, тем искусство вероятней".
В метафизическом же ключе подходит Бродский и к проблеме адресации поэзии на примере рассматриваемого стихотворения. "Лингвистическая энергия" этой поэтической исповеди направлена, по его мысли, на "идеального читателя", "абсолютного слушателя", "статус" которого приобрела для автора "Новогоднего" душа умершего Рильке. Возможностью подобного дерзновенного обращения к непознанной сфере загробного бытия поэт обя-зан, по Бродскому, "интуиции языка", так как "речь выталкивает поэта в те сферы, приблизиться к которым он был бы иначе не в состоянии". Здесь, как и в эссе о цветаевской прозе, внимание автора приковано к бессознательным для самого художника граням творческого процесса, сложному взаимоналожению "эмоциональной" и "рациональной" "сторон горя", выразившихся в стихотворении. Начиная с научно выверенного анализа "гармонически непредсказуемого" стиха, "предельности цветаевской дикции", Бродский уже с первой строки стихотворения ("С новым годом – светом – краем – кровом!") фиксирует "восклицание, направленное вверх, вовне", а в ступенчатой динамике лирической эмоции видит постепенное возвышение к идее "того света". Но, как подчеркивает Бродский, очевидная "настроенность слуха" поэта на народную "традицию причитания", происходящая "передача психологии человека нового времени средствами традиционной народной поэтики" являются интуитивными, органично-непроизвольными для творца, что подтверждает для эссеиста его заветное эстетическое убеждение: "Форма, содержание и самый дух произведения подбираются на слух".
Подлинной высоты прозрения достигает Бродский в установлении слож-ной природы цветаевского лиризма в "Новогоднем". В синтезе "любовной лирики и надгробного плача" сказалось соединение личного горя и от потери Рильке, и от оставления Родины с ощущением метафизического трагизма личностного бытия. Проницательна предложенная Бродским трактовка одной из самых пронзительных в этой связи цветаевских строк ("На Руси бывал – тот свет на этом зрел"): "Эти слова продиктованы ясным сознанием трагичности человеческого существования вообще – и пониманием России как наиболее абсолютного к нему приближения". Скрытый автобиографизм этого замечания автора придает эссе лирическое звучание.
Цветаевская поэтическая философия, как об этом уже писал Бродский раньше, вступает в определенный контраст с русской литературной традицией, в которой, по его выражению, сильна была "православная инерция оправ-дания миропорядка": "В голосе Цветаевой звучало нечто для русского духа незнакомое и пугающее: неприемлемость мира". При всей эффектности такого хода мысли данное утверждение не вполне исторично, ибо ХХ век, мятущийся дух которого и выразила поэзия Цветаевой, коренным образом переосмыслял и трансформировал мировоззренческие основы предшествующей традиции. Как косвенное признание этого может быть воспринят образ, которым Бродский завершил свое первое цветаеведческое эссе: "Так звезда – в стихотворении ее любимого Рильке, переведенном любимым же ею Пастернаком, – подобная свету в окне "в последнем доме на краю прихода", только расширяет представление прихожан о размерах прихода".
Итак, значение эссеистских работ Бродского об одном из крупнейших поэтов ХХ в. разнопланово:
• эти статьи явились важным вкладом в изучение как конкретных текстов Цветаевой, так и ее творческого наследия в комплексе;
• здесь нашли целостное выражение культурфилософская концепция автора, его взгляды на психологию творчества и природу художественного языка;
• данные эссе продемонстрировали перспективы симбиоза различных подходов к интерпретации художественного текста в рамках одного исследования. По духу и стилю эти эссе, будучи на глубинном уровне автобиографичными, соединили аналитизм, научно строгий литературоведческий анализ с элементами образных обобщений, с интуитивным прозрением потаенных граней личности творца, его художественной философии, проявившихся на уровне поэтики.
Примечания
1. Ничипоров И.Б. Жанр эссе // Ничипоров И.Б. "Поэзия темна, в словах не выразима…". Творчество И.А.Бунина и модернизм. Монография. М., Метафора, 2003.С.203-231.
2. Фокин А.А. Творчество Иосифа Бродского в контексте русской поэтической традиции. Учебно-методическое пособие. Ставрополь, 2002.С.29-30.
3. Здесь и далее текст Бродского приводится по изд.: Бродский И. Меньше единицы: Избранные эссе. М., Издательство Независимая Газета, 1999.
Источник: http://www.portal-slovo.ru/philology/37300.php
|