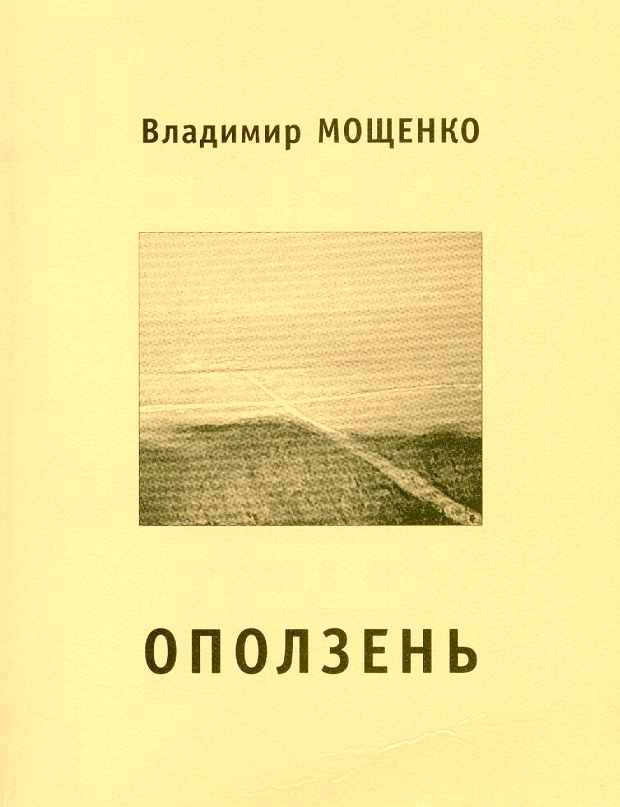Окна из алюминия в Севастополе — это новые возможности при остеклении больших площадей и сложных форм. Читайте отзывы. Так же рекомендуем завод Горницу.
СТРАНИЦЫ САЙТА ПОЭТА ВЛАДИМИРА МОЩЕНКО
(АНТОЛОГИЯ МИРОВОЙ ПОЭЗИИ, № 1, 2000) ]
В.Н.Мощенко.
ВЛАДИМИР МОЩЕНКО ОПОЛЗЕНЬ
Стихи, поэмы и четыре прозаических примечания
ЭХО ПОЭТА И ЭХО ЧИТАТЕЛЯ
Чем стихи этой книги отличаются от массового потока поэзии? Проблема эта неоднозначна и не так проста, как кажется. Я бы сказал, что коренное отличие – в их подлинности. Владимир Мощенко, к счастью, не пошёл по пути экстравагантности, не пустился в “выигрышное” плаванье по мелким волнам авангарда. Его стихи – это выраженная через тонкую и точную поэтику подлинная жизнь – жизнь реальная и жизнь поэтическая. В них – истинные удачи. Например:
В Донце вода заржавлена В начале ноября. Верните мне Державина, Музыку Снигиря.
И мы слышим эту музыку. Или апеллирующее к Пастернаку стихотворение: Год високосный мартом окупается. Но трудно жизни быть моей сестрой. Вчерашний день в анапесте копается, Утратив дактилический настрой. Здесь упоминание русской поэтической ритмики более чем уместно. Не утихает дрель с утра до вечера, Уж трещины пошли по потолку. А я – шарманщик старый. Я доверчиво Не воду в ступе, так словцо толку. Через точную традиционную поэтику Владимир Мощенко и создаёт образ, который в свою очередь как эхо собирает раздельные звуки русской поэзии в одно, в звучащий слепок подлинного, не заёмного впечатления. Эта книга талантлива. Чтение её может быть не разовым, не однократным. Но оно более чем окупается и для собрата по поэтическому цеху, и для квалифицированного читателя стихов. А читатель стиха, по мнению Ильи Сельвинского, – артист. Ему и книгу в руки. Поэзия Владимира Мощенко культурна в самом лучшем смысле этого понятия. Он не педалирует интеллектуализм, ибо разумность, выдержка, тонкие слои лежат в подпочве его поэзии. Прочитв эту книгу, становишься умнее и богаче. Владимир Мощенко принадлежит к элите русской поэзии без надрыва и снобизма. Он отстоял честь своей поэзии. Книга, то есть дело поэта, говорит сама за себя.. С чем я и поздравляю наш поэтический цех. Евгений РЕЙН
I
ПО ТУ СТОРОНУ СТРОКИ
* * *
Скажи, зачем из рук Аблая
Ты принял в юрте пиалу?
Ни воя не страшась, ни лая,
Зачем пошёл искать стрелу?
Ведь ею он попал в верблюда.
И видел ты, как тот к воде
Всё полз, теряя кровь, покуда
Губою не прилип к звезде. * * *
Эта аллея - как белая штольня
Сумерек зимних. И звёздный намёт.
Скоро сочельник. И вдруг колокольня
Грешную душу впервые поймёт.
Хлопья легли на чугун, на ограду.
Сказку-колядку услышать хочу.
Консерватория. Что как присяду
Я на скамейку - к Петру Ильичу.
Может быть, всё не настолько и плохо,
Если, в полёте толпу обскакав,
Там, над Большою Никитской, Солоха
Звёзды хватает на полный рукав.
Вот позабыть бы - и где ты, и кто ты,
В небе сургучную тронуть печать…
Белая штольня. Чугунные ноты.
Некому в окна с колядкой стучать. СЛУЧАЙ В СТЕПЛАГЕ
Ставили жизнь его на кон
Зеки, играя в буру.
Спрятанный нарами, дьякон
Думал: "Ведь завтра помру…"
В спину вонзится заточка.
Станет в забое светло.
Тут он узрит ангелочка.
Душу подхватит крыло.
Господи, разве ж для клетки
Небу угодный распев!
Свесится из вагонетки
Эта рука, помертвев.
Кто же он? Искорка. Искра.
Зван был он или не зван,
Спит он, и видится Истра -
Бедной Руси Иордан.
* * *
Дай мне ещё полчаса -
Господи, ведь поётся.
Исчезают одни голоса -
Музыка остаётся.
* * *
Сказал рассудку вопреки,
Не помышляя об удаче.
Там, по ту сторону строки,
Не так, как здесь, там всё иначе.
Там - несгоревшие дрова,
Хоть тень от дыма - на сугробе.
Там и жена моя жива,
Которая теперь во гробе.
Не вздрагивай. Не прекословь.
Жизнь не приестся, не насытит.
Там, по сторону, любовь.
И жалок всё-таки эпитет.
Вчера цвели твои жарки -
Они в гербарии сегодня.
Но по сторону строки
Господня воля. Да, Господня.
СНИМКИ БЕЗ ПОДПИСИ
- Только снимки без подписи… Кто ты?
Даже имени ты не сберёг.
- Я - фотограф. Снимал повороты
И великих, и малых дорог.
В тридцать пятом меня допросили.
"Где ты ищешь свои виражи?
Здесь прямые дороги, в России.
Для чего ты клевещешь, скажи?"
Что тут скажешь… Я был желторотым -
Заманил меня фотокружок,
И за первым таким поворотом
Ангел смерти мне душу обжёг.
Мост. И вьюга. И гребень заноса.
И дороги родимой разбой.
И вертелись в кювете колёса
По инерции, сами собой.
Так и жил я. И щёлкал. Ну что там?
Не злорадствовал я никогда.
Неужели за тем поворотом -
Тот же Ангел? И слышалось: да…
Вот и стали меня опасаться.
Может, правы. Ведь кто разберёт.
Но ответь, почему же вписаться
Мы не можем в такой поворот?" * * *
А лошадка скакала, скакала, скакала…
Леночка Р.
(когда ей было четыре года)
Что приснилось тебе в колыбели -
Вдруг привиделось, девочка, мне.
И глаза у тебя голубели,
Будто повод к Троянской войне.
Здесь и почва предательски шатка.
Но не плачь. Я тебе не солгу:
Детским гением скачет лошадка,
Не застрянет в грязи и в снегу.
Будет сердце девчоночье биться,
Если в вечность уходит строка.
Не подкованы эти копытца.
До свиданья, лошадка. Пока.
ЗАКАТ
Деревьев строй на косогоре
До удивления сквозной -
Быть может, оттого, что вскоре
Он станет чёрною стеной.
Не зря шаги утихли сзади.
Не зря от сердца отлегло.
Не зря, накопленное за день,
В лицо ударило тепло.
* * *
До чего ж облупился наличник!
Стёкла выбиты. Кухня пуста.
Я люблю этот мир, как язычник,
Обретающий веру в Христа.
На крылечке прогнившем - картонка.
Здесь бутылки - каких только нет!
Там, где прежде висела иконка,
В полумраке колеблется свет.
Я люблю этот мир, где разбито
Не одно лишь в окошке стекло,
Где в примёрзшее к почве корыто
Столько ржавой воды натекло. * * *
Прощай, душа моя! Вздыхает.
Ночь. Вьюга. Снежная пыльца.
А колокольчик затихает -
Всё дальше, дальше от крыльца.
Зачем же он сутулил плечи?
Зачем внезапно замолкал,
Спешил и щурился на свечи,
Оставил полным свой бокал?
Уйти с мороза нету воли.
Пустынно сердцу и уму.
Прощай, душа моя. Легко ли
В дом возвратиться одному? * * *
Было весело в Твери.
Ничего не пожалели.
Громко хлопали дверьми.
Выходили на аллеи.
Свечи яркие в руках
Полыхали на морозе,
Как в державинских стихах
Или в гоголевской прозе.
Шуба падает с плеча.
И в пути, безумно скользком,
Со свечой слилась свеча,
Породнившись ярым воском.
Что же в парке том теперь?
Как быстра была кибитка!
Уносилась в полночь Тверь
И последняя калитка.
Распакованный багаж
Сиротлив при свете новом.
И рисует карандаш
То, чего не скажешь словом.
* * *
А вот и след кибитки кочевой.
А вот и шёпот, вырванный листвой,
В котором… Впрочем, здесь нужны кавычки,
Чтобы туда Урал меня вознёс,
Где строй екатерининских берёз,
Где был увековечен взор калмычки.
И тот, кто запрягал тогда коней,
Открыл ей дверцу, подал руку ей,
На туфельку взглянул и на лодыжку.
А этот - что? В кудряшках и в плаще.
И багажа ведь нету вообще.
Пускай бежит за барышней вприпрыжку.
И побежал бы он ещё резвей.
Душа моя, да ты степных кровей.
Трактир не нужен. Запрягай, Тимоха.
Лет, может, семь осталось. И вослед -
Шиповника невылинявший цвет
И слёзы журавлиного гороха. * * *
Эта книжечка вздоха короче
И Чумацкого Шляха длинней.
В ней качаются гнёзда сорочьи
Посреди узловатых ветвей.
Только проза, одна только проза
Обернуться захочет строкой,
Как далёкий фонарь мотовоза,
Отражённый ночною рекой.
* * *
Я до сих пор не могу понять,
как это происходит…
Г о г о л ь
Где ж ты, пламя? Хотя бы сегодня ударь.
Только лижешь страницы по краю.
На Васильевском острове старый фонарь
Умирает - и я умираю.
Тот фонарь в окруженьи чудовищных плит.
Запредельностью каждая дышит.
Я хочу закричать - ну а будочник спит.
На коленях - картуз. И не слышит.
Не оглянется даже соседский дьячок.
Постарел он. И ряса измята.
Не ходок он на Невский. А там башмачок
И сапог отставного солдата.
Подожди-ка, фонарь. Я - с тобой, я - вослед.
Убывает тепло под полою.
Я молиться хочу. Так зачем ганимед
К магазинчику вылез с метлою? * * *
Что ж делать! виноват
петербургский климат…
Гоголь
Шинель? Бог с ней, хоть, может, и не всякий
Готов остаться с нищенской сумой.
Ну так кричи: "Извозчика! Домой!
Где зеркало? Любуйся же Акакий
Акакиевич! Видишь? Боже мой…"
Плевать на ходики, на зов кукушкин.
Ведь дёргает идти наперекор.
И вицмундир потёртый - не укор.
А коленкор…Ну что сказал бы Пушкин
Про тот добротный, плотный коленкор?
Уж он-то знает цену коленкору.
Вот так удача! Кликни ж ямщика.
Сжигает снег горячая щека.
Айда в трактир! Тут Адриана впору:
Порадуем давай гробовщика.
Вот с кем за кружкой пива загуляю!
"А вы, герр Шульц, не любите зимы?"
Мы пьём, и стружки стряхиваем мы.
А утром я - бегом по Разгуляю,
Чтоб больше никогда не брать взаймы.
На кой ещё вчера кропал весь день я?
Убей, но эту чушь не перечту.
Всё отдал бы я за подробность ту,
Как будочник заметил привиденье,
Шагавшее к Обухову мосту. * * *
Бьёт град по черепице,
И мне домой пора,
Как гоголевской птице
По-над волной Днепра.
Не волны тут повинны,
Не с шашкою казак…
Могу - до середины,
На берег тот - никак.
Неужто губы вытру
И крикну: "Нипочём!" ,
Опустошу макитру
Не с бражкой - с первачом?
И не заплачу - ухну,
И в смех - а не помру,
И на постелю рухну
К бесстыжему бедру…
Часу примерно в третьем
Был сумрак за окном
Меж смертью и бессмертьем
Нечаянным звеном. * * *
"Будешь помнить?" - "Конечно. Всегда".
Вот теперь все узлы развязали.
Я с рожденья любил поезда.
Всё с нуля начинал на вокзале.
Пусть Безглазая точит косу.
Ставлю крестик - пусть ставит свой нолик.
Я букетик фиалок внесу
И в вагоне поставлю на столик.
Те же станции и города.
Всюду балки, берёзы, бочаги.
Нанадёжное слово "всегда" -
Это всё-таки признак отваги. ВОСПОМИНАНИЕ О 16 МАРТА
А на что рассчитывать ты мог?
Почки на кустах набухли снова.
Над рыбокоптильнею дымок -
Чуть повыше запаха спиртного.
Может, ты увидел вдалеке
Чёрный блеск запиленной пластинки
И себя - уже в другом дымке,
В слове, горьковатом, как поминки.
Мотовозик гроб кому-то вёз.
Мостовая вдрызг была разбита.
А на ней - и лужи, и навоз,
И ещё кусочки антрацита.
Ты каких подарков ждёшь, малыш?
Разве март - не о тебе забота?
Что же ты, растерянный, стоишь
У ворот стекольного завода?
Рядом - кучи битого стекла.
Это сшибки света, радуг сшибки.
Это жизнь тебя подстерегла -
Что с того, что, может, по ошибке. * * *
На всю округу - вересковый чад.
И до того весна уже большая,
Что снова птицы севера кричат,
Все остальные звуки заглушая.
У берега - лиловая вода
Под валунами и над валунами.
И чей-то шёпот: "Не умрёшь ты? Да?"
"Конечно, да. Но это - между нами". * * *
Вот старый Бахмут. Вот речная излука.
Соборная площадь. Гудящий базар.
Скрипенье подвод. Родословная звука.
Пускай и убогий, но всё-таки дар.
А солнце! А запах плетённой корзины!
Холодная Балка. Болото. Лозняк.
И крик мотовоза. И скорость дрезины.
Открытые окна. И лунный сквозняк.
Плакучие ивы. И вот уж Бахмутка.
А там, у моста, камыши кое-где.
И выстрел отца. И подбитая утка.
И кровь на крыле. И круги по воде.
И Южный вокзал. И вагон. И разлука.
И сельское кладбище. И вороньё.
Подарок судьбы. Родословная звука.
Богатство моё и несчастье моё. КНЯГИНЯ ОЛЬГА
Плакала над Игорем, выла до утра.
И горели факелы над волной Днепра.
Господи мой, Господи, сможешь ли простить?
Я была язычницей. Я умела мстить.
Девою Обидою вскормлена была.
О душе загубленной бьют в колокола.
И древляне падали. Падали - кто где.
Кто на узкой улочке, ну а кто в воде.
Церкви я построила, чтоб вину избыть.
Всё равно я, Господи, не могу забыть.
Боже, избы корчились в пламени-огне.
И застрял мальчоночка в выбитом окне.
Вижу снова: трогает он траву рукой,
Тоненькой, повиснувшей, мёртвою такой.
Я шептала, пьяная: "Ладно. Ничего…"
Винные, невинные - все за одного.
Все - за князя Игоря. Господи, прости!
Видятся побитые. Взгляд не отвести.
Видится мне девушка, руки чьи вразлёт.
Юная древляночка. Незакрытый рот.
Косы в красной лужице, и копьё в спине.
Перед смертью крикнула: "Ой, не надо, не…"
Слышала я, Господи, голос Твой: "Не тронь!"
В том окошке отрока пожирал огонь.
Не успел он выпрыгнуть, и в груди стрела.
Золотые волосы выгорят дотла.
Я над тем пожарищем птицею кружу.
Я заупокойную службу отслужу.
И в соборе полночью, гулком и пустом,
Я перед иконою осенюсь крестом.
О тебе, древляночка, криком я кричу.
Нет конца рыданиям. Ставлю я свечу.
И ещё за отрока. За тебя, сынок.
Лик Твой, Богородица, этой ночью строг.
Годы и столетия не развеют грусть.
Пусть за них помолятся и помянут пусть. СЕРАФИМ САРОВСКИЙ
Во дворцах и в избах лесом пахли ёлки.
Шёл проспектом Невским барин в треуголке.
Спал ямщик, подвыпив и забыв про вожжи.
Серафим молился: "Помоги нам, Боже!"
В церковке больничной рядом с ним старушки
Медные монеты опускали в кружки.
Рождество встречали песнями крестьянки.
Сельские мальчишки оседлали санки.
А разбойник плачет. Да ещё как плачет.
Голову в ладонях заскорузлых прячет.
Топором ударил старца он давно ли.
Сам и помирает от великой боли.
Не было в той келье клада-захорона.
Несколько картошин и одна икона.
В церковке больничной служат литургию.
Серафим Саровский видит всю Россию.
Видит всю Россию. Силы убывают.
Силы убывают. Люди убивают.
Вот уже у старца поникают плечи.
Но ко всем иконам он поставит свечи.
Своего убийцу Серафим не бросит:
У Христа с поклоном милосердья просит,
Чтобы завтра в келье и уснуть навеки,
Видя след пожара в этом человеке,
Чтоб уснуть на Книге, здесь, на аналое,
В день, открытый снегу и смолистой хвое. ДО ВОЙНЫ
Когда все были живы и здоровы,
По улице окраинной брели,
Вздымая пыль, мычащие коровы.
И запах свежевскопанной земли
Мне нравился. Я видел, как лопата
Лежала у распахнутых ворот.
И чей-то голос: "Это "Травиата"!"
Потом другой: "Совсем наоборот.
Не "Травиата" - Бог с тобой: "Аида"".
И звуки репродуктора в окне.
А я страдал, не подавая вида:
Вот так в кино пойти хотелось мне!
В тот год мы часто Чаплина смотрели.
Я ничего не знал тогда смешней.
Огни Большого Города горели
В душе едва проснувшейся моей.
Ещё я помню: с нашим домом рядом.
У церкви выгружали кирпичи.
Она уже давно служила складом,
Тут больше не святили куличи.
Гудков далёких паровозных зовы.
Фиалки. Сумрак. Шорохи. Теплынь.
Тогда все были живы и здоровы.
И наш сосед преподавал латынь. * * *
Не помню я, в каком году,
Но точно помню, что в июне
Купали молнию в саду -
Подружку бронзы и латуни.
И что-то вдруг открылось мне -
Пусть даже не до половины.
И стёкла треснули в окне,
И стали парусом гардины.
МЕЛАНЬЯ СЕМЁНОВНА
Пришла ты в апреле восьмого числа.
Ты нас разыскала, согрела, спасла.
Икону Царицы Небесной внесла
В домишко, недавней бомбёжкой помятый.
Сказала: "Сынок, не грызи карандаш.
Поправишься ты и экзамены сдашь".
Конечно, ты помнишь. Весна. Сорок пятый.
При чём же тут годы? При чём тут погост?
Меланья Семёновна, кончился пост.
У нас впереди - Николаевский мост.
Китайских фонариков звёздочки всюду.
Они - продолженье пасхальных свечей.
Кончается ночь. Аромат куличей.
Чей взгляд у тебя? Догадаться бы - чей.
И первая зелень, подобная чуду.
Чей взгляд у тебя? Но не задан вопрос.
Я всё-таки выжил и всё же подрос.
Меланья Семёновна, слышишь: "Христос
Воскресе!" И новая радость ответа.
И вот Николаевский мост позади.
Цветастая шаль у тебя на груди.
"Стучись хорошенько да всех разбуди!"
Ещё не светает, но сколько же света!
ТРОФЕЙНЫЕ ФИЛЬМЫ
Как богато мы, нищие, жили!
Ты почти что босой - всё равно!
Для тебя - Тито Гобби и Джильи.
Это юность. И это кино.
Ведь для умного и для тупицы
Был тогда одинаковый шанс,
Если, кроме "Индийской гробницы",
Демонстрировали "Дилижанс".
И трубач по фамилии Грегер
Нам играл в подворотне рэгтайм.
А потом симпатичный бутлегер
Погибал ради тайны из тайн.
Славлю щедрости кинопроката
За влюблённую насмерть трубу,
За судьбу фантазёра-солдата
С верой в женщин и с пулей во лбу.
* * *
Здесь и ищи мои следы
И тайну поворота:
Лубянка. Чистые Пруды.
И Красные Ворота.
Когда б не печи адский гул,
Не над погостом птицы,
Уж ни за что б не зачеркнул
Те самые страницы.
* * *
Почерк Саввы, иеромонаха:
"Я цыдулку тайно передам,
Патриарше Никон. Как ты там?.."
Что ответить? Что приснилась плаха?
Что не ведал, слава Богу, страха?
Что из рощи выпорхнула птаха
И прошелестела по кустам?
Утром Бело озеро туманно.
Пахнет камышами и кугой.
Прихвостни царёвы, ни ногой
К вам я, порождения дурмана,
Ни за что, лишённый вами сана,
Никогда, ведь был я постоянно
Соловецкой пустыни изгой.
Фёдор Алексеевич, ты плачешь.
Ты меня жалеешь. Это зря.
А тем паче - вслух не говоря.
Ты в карман платок голландский прячешь.
Ты ль мою судьбу переиначишь?
Перед кем ты задницу отклячишь,
Ты, слуга Небесного Царя? * * *
У Верхнего Алопова сверну,
И сразу - вниз, к стогам намокшим, к Жиздре,
Чтобы припомнить давнюю вину:
Вины всё больше - и всё меньше жизни.
И облака в речушке по утрам
Плывут подобно оглушённым рыбам.
А вон - обрыв, и над обрывом - храм.
И снова - храм, и снова - над обрывом.
Их два креста - для неба и реки,
В которой гаснет медленно лампада.
Кто строил их, знал про мои грехи,
А больше никому и знать не надо.
* * *
Вишь, как оголилось корневище!
Вишь, как взволновался краснотал!
Там, где прежде было городище,
Радонеж удельный засиял.
Терема. Палаты. И лачуги.
Переулок травами пропах.
После боя сброшены кольчуги.
Синий ветер. Паруса рубах.
Господи, как загляделся Сергий!
А над ним, желтея добела,
Словно бриллиантовые серьги,
Вдеты прямо в солнце купола. * * *
Откликнулось. Отозвалось.
Что было мы, не стало нами.
И выдернул земную ось
Конь Бледный в облике цунами. * * *
Господи! Пошли мне человека!
Эльмира Котляр
Кто там? Друг ли? Враг ли?
Отступил бы ради
Стона и мольбы.
Лилией пропахли
Зимние тетради -
Это знак судьбы.
Углублюсь в страницу,
Побегу вдогонку -
Лишь глаза протру.
Дал мне Бог сестрицу,
А верней - сестрёнку,
А верней - сестру.
НА ВОСТОКЕ ЭДЕМА
1
Галине Климовой
Ты?! Наконец! Иди за мной вослед.
Открой глаза. Смотри: земля Халила.
Вот золото и оникс. Вот браслет -
Я утром смастерил, чтоб ты носила.
Да, он тебе к лицу. Я очень рад.
Зачем ты шепчешь мне, что ты раздета?
Купаться хочешь? Вот река Евфрат.
Нет, это не объятья. Волны это.
Ну что с тобой? Всё хмель тебе да хмель.
Пьянит тебя, всего скорее, хвоя.
Пускай опять за речкой Хиддекель
Резвятся звери, и трубя и воя.
Да, это губы. Хорошо: уста!
Да, без тебя я ничего не стою.
Вчера ещё земля была пуста,
И Божий Дух носился над водою.
А ты всё: хмель да хмель… Нет, виноград!
Пора бы лечь? Да что с тобой - не время.
Дрожишь? Не бойся. То ползучий гад.
Он вечно там, где закипает семя.
2
Я спрячусь. И в травы лицом упаду.
Укроюсь листвою и шкурой.
Жена зарыдает в Эдемском саду
И сразу же станет понурой.
Я понял, во что превращу эту плоть,
Какую судьбу ей готовлю.
За-ради неё, милосердный Господь,
Разрушу небесную кровлю.
И карканье всюду: "Скорей бы он сдох!" -
Как жало ползучего гада.
И мы услыхали, о Боже, Твой вздох
В тиши Гефсиманского сада.
3
Забор. Потом ещё забор.
Не для забавы - для острастки.
Мы сад Эдемский с давних пор
Упрямо делим на участки.
Вот подорожник. Вот лопух.
А это заросли малины.
И крылья мотыльков и мух
В ячейках липкой паутины.
За этим садом - снова сад
И двор таинственный соседский.
Оттуда голоса звучат
Невнятно - старческий и детский. * * *
Была изглодана рябина
Не вьюгою из озорства,
Когда связал я воедино
Все звенья своего родства.
Кем были мы? И кем мы стали?
Кто здесь хозяин? Кто тут гость?
Я сам из этой птичьей стаи,
И мне нужна рябины горсть.
Ты ни при чём, праматерь Ева.
Утри, мой праотец, слезу.
Из снега вылеплено древо,
И никаких ветвей внизу. СЕМЁН ДЕЖНЁВ
И в тех долгах вконец погибаю…
Из челобитной
1
Не повезло, казак. Не повезло.
Морской разбой и льдины - не для кочей.
Сломалась воля - хрупкое весло.
Ты и теперь до новых рек охочий?
Ярасим - чуть поодаль. Лиходей.
Иль государево всевидящее око?
Клянёт меня: "Зазря сгубил людей!"
Ему б назад - да больно уж далёко.
Он перед смертью бредил, говорят.
Снести царю богатства обещался.
И крыл меня, потом и всех подряд
За то, что в океане обнищался.
Я пнул ногой у берега каяк.
И вспомнил, окружённый дикарями,
На Каменном Большом Носу маяк
Между двумя великими морями.
Маяк тот Башней звали до сих пор.
Вся из кости китовой Башня эта.
Ярасим на меня глядит в упор -
Уже оттуда, где не ждут ответа.
2
С коряками я шёл к реке три дня.
Да и к какой реке - к своей Погыче!
И хлад и глад не мучали меня:
Я думал о царе и о добыче.
И вот - она… Неужто же она?
Коряки подтвердили. Только, Боже,
Погыча-то, казак, скудным-скудна
И не одарит серебром, похоже.
Всё тундра, тундра. Камни. Березняк.
Осинник. Тальник. Лесу - еле-еле.
Беспромыслица. Соболей - пустяк.
Других пушных зверей не усмотрели.
Семейка, головою ты поник.
Не так молился Господу, пожалуй.
Суши рубаху. Ты кругом должник.
Ты кто теперь? Товарец залежалый.
Будь проклят о Погыче этой слух.
И что нам спать мешали чьи-то враки…
Ведь соболей пока не больше двух
Поймали отощавшие казаки.
3
Уже семь раз во льдах я оживал…
И потому, друг чукчей и якутов,
Себя мокрющей ферязью окутав,
Крестился я на белопенный вал.
Трещали кочей мятые борта,
И мачта на глазах моих ломалась…
Жизнь - это что? Что жизнь? Неужто малость?
Какая? Та? А может быть, вон та?
Абакаяду целовал я в грудь
И утешал: "Даст Бог, под небесами,
Стреляя в океане парусами,
Пособный ветер, жёнка, будет дуть…"
Преставился вчера один якут,
Трёх собольков оставив Миколаю.
А что оставлю я? Почём я знаю.
Слова застряли. Слёзы не текут.
ВЕЛИКИЙ ПЯТОК
Воробышкам зёрнышек бросив,
"Снимаем?" - спросил Никодим.
И, перекрестившись, Иосиф
К распятью поднялся за ним.
"Ты знаешь, за что нам молиться?"
"Да что ж, я глупее камней?"
Великий пяток. Плащаница.
И тело Спасителя в ней.
То были не лица, а лики.
Солдаты забыли латынь.
Засохла на кончике пики
Кровь нашего Бога. Аминь. * * *
Дворы. Кустарники. А там,
Как ветер, прячется Адам,
Не отвергаемый листвою.
"Постой, - мне слышится, - постой…"
И, ослеплённый наготой,
Той, первобытной, я завою.
Луны ущербная деньга.
Плачу за всё втридорога
И прибегаю к многоточью.
А ты совсем не из ребра.
Ты, как луна, из серебра
Мне на погибель этой ночью.
Что в глубине моей скулит?
Не голубица ты, Лилит.
Ты не жена, не слава мужу.
Но как подвздошье обожгло,
Но как то самое крыло
Случайно вырвалось наружу! * * *
Нет в Орехове орешника.
Нищим здесь не подают.
Но зато здесь и для грешника,
И для скворушки приют.
Званье гения опального
Отвергаем мы вдвоём.
Мы, певцы района спального,
Всё о нашем, о своём,
Всё о нашем, о своём -
Не вослед за соловьём.
Подпевают всюду птицы нам.
Не сыскать таких верхов…
Сколько издано Царицыным
Ненаписанных стихов!
* * *
Памяти Бориса Рахманина
Лужи - будто пролили чернила.
Тень у металлических ворот.
Дачное крыльцо твоё прогнило.
Всё равно хозяин не придёт.
Не придёт - вооружиться лупой
Там, где сосны - сразу за стеной,
И за-ради страсти самой глупой
С русской жизнью встретиться ночной.
Льют дожди. И пахнут тёсом доски.
Виден переделкинский погост.
Над двором прославленного тёзки
В небе тоже не отыщешь звёзд.
Электричкой пронеслось словечко.
Или, может быть, наоборот?
Прохудилось дачное крылечко.
Тень у металлических ворот.
* * *
Александр Ревичу
В этой строчке переводят стрелки:
Отстают часы на пять минут.
А в землянке после перестрелки
Водку пьют и сухари грызут.
Капитан стоит у патефона.
Вот пластинки кто-то приволок.
Значит, будет эта ночь бессонна -
С козырною дамой без чулок.
А девчонка подставляет щёчку:
"Может, потанцуем, капитан?"
Он ещё напишет эту строчку.
Выстрелит ещё его наган.
Рифмы в вальсе кружатся покуда,
Чтобы слышно было из окна,
Как беспечно звякает посуда,
Как блатная музыка хмельна.
В Кракове я встретил эту строчку,
Где подковы в темени искрят.
Так что возвращай долги в рассрочку,
Если пощадил тебя штрафбат. * * *
Слова нетленные напишешь
В такую ночь - и ты погиб.
В сосне надломленной услышишь
Колёс, полозьев, вёсел скрип.
Чтобы с судьбой не разминуться,
Уйдёшь куда глаза глядят,
Как будто осенью вернуться
И впрямь сумеешь ты назад. * * *
Вмёрзли твои пароходы
В лёд опозданий моих…
Владимир Соколов
Сегодня на снегу
Твой болдинский листок.
Ты с нами нежен был.
Ты с нами был жесток.
В Квишхети лунный блеск
Ударил по клинку.
Ты помнишь?
Но кому ты посвятил строку?
Холодная звезда притягивает свет.
Холодная звезда. Лирический поэт.
* * *
Мы с дамбы видели Осташков,
Встававший прямо из воды…
Владимир Соколов
На Селигере - солнечные вспышки,
И пастушонок щурится, малец.
И возникают островочки-"всплышки":
Тот, слева, - Козы, а правей - Званец.
Велосипеда почернела рама.
И Марианна, как всегда, права:
Ты вдруг уходишь - к Лихославлю прямо.
И вновь не приминается трава.
Здесь твой пейзаж. Но где твоя дорога?
Спросили мы - ответить ты не мог.
Тогда скажи мне, баловень пролога:
Написан ли тобою эпилог?
Мы помолчим. Кричать вослед не надо.
Что ты шепнул - мы по губам поймём:
Твои озёра не боятся спада!
Какой же спад, когда такой подъём?
И возражать я ни за что не стану.
Званец и Козы ближе к нам придвинь.
Я обниму по-братски Марианну:
"Пойдём и мы. Здесь рядом - Кравотынь". * * *
Возле церкви Вознесенья
Пахнет тленом и рекой.
Неужели на спасенье
Нет надежды никакой?
За оврагом - китежанки,
Различимые едва.
Над могилою крестьянки -
Полустёртые слова.
ПО ПУТИ В СОЦГОРОДОК
Вот ветер был за Джезказганом!
Мы с мамой шли в соцгородок.
И в этом воздухе стеклянном
Уже я двигаться не мог.
И вьюга мне глаза колола
И люто била по ногам.
А в это время наша школа
В тепле читала по слогам.
Я стал почти что как ледышка.
Вокруг - синё. Хоть волком вой.
И вдруг я вижу: рядом - вышка,
На ней - в тулупе часовой.
Он закричал: "А ну, отрава!
Погибель ищешь пацану?
С дороги повертай направо.
Давай скорей - не то пальну!"
И тут раздался голос зека:
"Ведь там сугробы, душегуб!"
У пожилого человека
Чернели корки вместо губ.
Стоял он около подвала.
И свирепел собачий лай.
А мама до смерти устала.
"Стреляй! - сказала. - Ну, стреляй!" * * *
Эта осень - как будто сухая гангрена.
Террикон не скрывает с курганом родства…
Ты права, что звучит не мазурка Шопена.
А когда ты при жизни была не права?
И поэтому клятвы своей не нарушу.
Как велела, в дорогу тебя соберём.
И держу я в руках материнскую душу
Только миг - чтоб расплакаться всем Псалтырём.
Невесомы в кафизмах надгробные плиты.
Это первый мороз. Листопад. Снегопад.
Мы с землёй изувеченной вовсе не квиты,
Потому что никто не вернулся назад..
…А давно ль в Святогорске коньки надевала
И бывала от зимнего солнца слепа,
И в заброшенной церкви, во мраке подвала
Натыкалась нечаянно на черепа!
* * *
Это книга моих заблуждений,
А в часах - джезказганский песок.
Тени узников. Пара мгновений
От погибели на волосок.
Там на улицах неосвещённых
Прут бураны - степей поезда.
Ну а строчек, тебе посвящённых,
Не ищи: не найдёшь никогда.
Искажается слово бураном
В декабре, в сорок первом году.
И сегодня в том мареве странном,
За верёвку держась, я иду.
Мне твои непонятны заботы.
В этой книжечке тесно двоим.
И какие тут могут быть счёты
С Театральным проспектом твоим.
БОРОВОЕ, 42-Й
1
В Боровое собирайся, в ту страну,
Где ты в Щучьем первый раз пошёл ко дну -
Да и вынырнул: "А я не утону!"
Кто-то каркал, что зачахнешь, не зачах.
Золотишко, будто скиф, искал в ручьях
И в казачьих незатупленных речах.
Не загнись, дурак, прошу тебя добром,
Побывай ещё разок в сорок втором:
Там Синюха, там кумыс, там "Маслопром".
Отыщи строку в "Танцующем лесу",
Как нашла Козетта ночью двадцать су.
На валун присядь - и я тебя спасу.
2
Я, осенённый тенью террикона,
Взращённый солнцем в чеховской степи,
Увидел бор - и он многоколонно
Открылся вдруг, позвав меня: "Вступи!"
Вчерашний день, и штампик похоронки,
И эшелоны - всё уже вдали.
Меня, гурьбою обступив, сосёнки
К столетним соснам тут же повели.
Смола струится в воздухе прогретом.
Весь бор сегодня - будто богослов.
Не зря я озарён янтарным светом
Среди взлетевших к небесам стволов.
Здесь всюду царство хвои и гранита,
Оленьих троп и лебединых стай.
Здесь Книга Книг - она всегда раскрыта.
Страницу за страницею читай.
Вот рысий след. Чуть дальше - след копытный.
За валунами, в двух шагах - обрыв.
А здесь стоял охотник первобытный,
Своё копьё в раздумьи опустив.
3
Когда я грыз с братишкой жмых,
Чтоб не терзала голодуха,
Колёса мельниц водяных
Крутила лихо Громотуха.
Полуторка была пуста…
Я понял истину святую:
Колёса мельниц неспроста
Крутила речка вхолостую.
И ей и мне неведом гнев.
Давным-давно уже не кутим.
Теряя русло, обмелев,
Мы всё равно колёса крутим.
И, получив своё под дых,
Забуду ль, как, вздыхая тяжко,
В карманы мне совали жмых
Не раз казачка и казашка.
4
Иголочная прелая подстилка.
И редколесных взгорий желтизна.
Там, где Чебачье, смолкла лесопилка.
Снежок срывался ночью - вот те на.
Кизильник до сих пор ещё заснежен.
И ягоды почти что не горчат.
А за трухлявой кучею валежин
Я вижу сразу нескольких бельчат.
"Ау!" - я слышу в воздухе обманном.
Волнуется, должно быть, военрук.
Уже с утра, окутана туманом,
Синюха невидимкой стала вдруг.
Да где же ты, гранитная громада?
Через неделю кончатся дожди.
Пусть ягоды горчат. Мне знать не надо,
Что ждёт меня, что будет впереди.
5
У косули разъезжаются копытца.
До подножного ей корма не пробиться:
Вот такой заледеневший наст -
Ни былинки, ни листочка не отдаст.
То-то похороны стужа правит пышно.
То-то егеря-развозчика не слышно.
Что ж рожок? Замёрз, должно быть, звук?
А мужик-то у Великих Лук.
Слышу шёпот: "Здесь глаза мои погасли.
Я убит. Я не подброшу сена в ясли.
Веников берёзовых иссяк
Весь запас, хоть я и так и сяк…"
Что ж ты, егерь? Что ж молчишь? Скажи, смогу ли
Отвернуться от измученной косули?
Вот сухарь - весь в крошках мой сухарь.
И сосны рождественский стихарь.
6
Грибами иду поживиться,
Капустою заячьей в лес.
Смолистые волны живицы
Бросаются наперерез.
Узнаю потом, что питает
Живица скрипичный смычок
И в звуке Менухина тает,
Чтоб тут же запеть… Но - молчок!
Всё это потом. А сегодня
Вдруг птицы притихли кругом,
И туча несётся, как сводня,
И сходится с молнией гром.
И ёлочных лап колыханье,
И хвойные мокнут ковры.
Глубинок грибное дыханье,
Дыханье столетней коры.
Боюсь я - и всё же пирую:
Не пасынок в этом лесу.
И в лагерь рубашку сырую
С гостинцами я принесу.
7
Мы смеялись, придурки: "Пфанкухе! Пфанкухе!"
Мы орали вослед ему: "Эй, фон барон!"
До войны в санатории возле Синюхи
Он играл. И рыдал его альт-саксофон.
Сколько было доносов и сколько допросов!
("О майн Готт, как ужасно засовы скрипят!..")
Протянул ему руку однажды Утёсов:
Карл Иванович, вы - из "Весёлых ребят"!
С ним дружил одноногий Ибрай Сулейменов -
Пианист. Приносил он грибочков ему.
И Пфанкухе сказал, что в Берлине джазменов
Гитлер всех для начала упрятал в тюрьму.
И, рэгтайм напевая, исполненный грусти,
Под названьем "Прощались мы, Джонни, у скал",
Доставал он из банки солёные грузди
И чуток самогона в стаканы плескал.
Сторонились казахи его и казаки.
Да и мы из рогаток стреляли вдогон.
А потом увезли его в ночь в автозаке
И впихнули под утро в вонючий вагон.
8
В слове "сочельник" - заснеженный ельник.
Ездят на санках и ходят пешком.
Мне показалось, что из лесу мельник
В сумерках вышел с огромным мешком.
Да, это он. А на нём - капелюха..
Снег под протезом особо скрипуч.
Вместе с камнями во льдах Громотуха.
Не замерзает один только ключ.
Мельника звали у нас Ермолаем.
Был он тяжёл, как его жернова.
Знал, что болеем и недоедаем.
"Вот вам - мучицы… Живём однова…"
Слыл за молчальника, за нелюдима.
Печь не топил у себя и в мороз.
В сорок втором "Житие Серафима"
В домик наш с холодом вместе занёс.
И говорю я теперь не словами,
А Громотухи взъерошенным льдом,
Как за звездой вифлеемской с волхвами
Мы с Ермолаем к вертепу идём!
9
(ПОСЛЕСЛОВИЕ)
Было ведь: гусиное перо
Захлебнулось молодою кровью…
Ну а мы? А этот взрыв в метро?
Вот Псалтырь - читай про Божью кровлю.
Ты не знаешь: скоро мне конец.
Где ты притаился? Где ты дышишь?
Думаешь, не помню я, малец:
Я шепну, но ты ведь не услышишь.
Ты всё там же. Ты в сорок втором.
Тот же самый конь накрыт попоной.
Мы живём в хибарке в Боровом,
Рядом с Груней, бывшею поповной.
На столе - чернильница, букварь.
Песня во дворе. Поют казачки.
И мигает до сих пор фонарь
Возле станционной водокачки.
10
Вновь с окровавленной плетью
Осень идёт по лесам.
Новому тысячелетью
Буду рассказывать сам:
Как подстрелил я марала,
Как я заездил коня,
Как тяжело умирала
Женщина из-за меня.
Вот оно, хриплое слово,
Словно бы воздух иссяк.
Лебеди из Борового -
Самый последний косяк.
11
Пусть минул век - я всё равно найду
Скатившиеся в Щучье валуны,
Замшелую гранитную гряду,
А на вершине - те же две сосны.
Я озеро Лебяжье отыщу,
И там найду я даже лебедей.
Басманная, ты видишь: я не мщу.
Ключом от дома моего владей.
Что напоследок ты, скажи мне, дашь?
Ты затоптала все мои следы.
Иной мне снится каменный пейзаж:
Мне снится воздух каменной гряды. * * *
Детинец, признал меня всё-таки? То-то!
Так, может, откроешь мне Смердьи ворота?
Позволь же ступить на тот самый мосточек.
Куда он девался? Мне б только чуточек:
Узнать бы, где башенка та - Часовая…
Прости, да ведь разве ходил по дрова я?
Что так погрустнел? И нахмурился что так?
Той башенки нету у Нижних решёток.
Пусть я из оврага, где Гребля и свалка,
Глаза выедает мне электросварка.
Но я разгляжу, как тогда, спозаранку
Всё ту же финифть, позолоту, чеканку,
Те самые стрелки, ту самую бездну
Над башней - и я никогда не исчезну
У Козьего брода, где прорубь дымится,
Где с прорубью рядом - моя рукавица…
II
МАРТ ГАЛАКТИОНА
ЭПИТАФИЯ
Я - художник Гурам. Жил я в горном селеньи.
Я сорвался с уступа и чуть не погиб.
Там был ангел. Глаза его были оленьи.
Мне казался диковинным крыльев изгиб.
Я на скалах его рисовал, на холстине,
А потом одолел Джавахетский хребет.
Мои фрески в Икорте на стенах поныне.
Я был иноком. Я не исполнил обет.
Мне игумен прощал и хмельные метели,
И победу не ангельских - девичьих глаз.
Я рыдал. Я отправился в Светицховели.
Но и там я бессмертную душу не спас.
И сидел я в духане, уставившись тупо
На обвислые груди косой Русико.
Быть художником - то же, что падать с уступа.
И грешить тяжело, и спасаться легко.
Схоронили меня возле древнего храма.
Все иконы мои взял отец эконом.
Если ты не спешишь, помолись за Гурама
И поставь у могилы бутылку с вином.
* * *
Да, представь себе: живу.
Больше видится, чем снится.
Здесь, в Паншети, на траву
Снег, как в Рождество, ложится.
Я забуду всё равно
И тебя, и день вчерашний.
Вся в метели крепость Сно
Вместе с трёхэтажной башней.
Ну, ответь, коль ты хитра:
По чьему же наущенью
Рвутся к выходу ветра,
Уши прожужжав ущелью?
Вьюга саван соткала,
Не бывать же ей иною…
Сно возвысила скала,
Обнеся его стеною.
Тридцать первое. Метель.
Эхо снежного обвала.
Завтра всё-таки апрель.
А тебе и горя мало. * * *
Ну и век наступил… На примете я.
Что ни сделаю - всё невпопад.
Так спаси ж ты меня, Имеретия,
Отведи от меня камнепад.
Окаянный, я шёл с окаянными
Браконьерами, а не людьми,
Ты прости меня и над капканами,
Будто облачко, приподними.
Расшифрую все горные знаки я
И не сделаю наоборот.
Дай сегодня мне песню Акакия -
Чтоб не портил её перевод.
Я увижу, под ветром открытую,
Твою белую грудь невзначай.
И с царевной твоей Серафитою
В день последний меня обвенчай. * * *
А в шестидесятых было так…
Я не плачу, я смеюсь - дурак.
В восемнадцать двадцать улетаю.
Вслух твои "Проталины" читаю.
Не взлетел, а в облаках витаю.
Ведь не на год расстаёмся. Мрак.
Мы с тобой во Внукове сидим,
Где не поощряется интим.
Мне б завыть. Но я всё это скрою.
Я игрок, и я живу игрою!
Не пересечётся твой Витим
С вышедшей из берегов Курою.
Буду проклинать я в Тианети
Через пару дней мгновенья эти.
Тианети - вечности причал.
Там меня обступят ночью горы.
Ничего не стоят разговоры.
Ничего. Уж лучше бы молчал.
Девочка, ты - женщина и гений.
Вот он, плен твоих стихотворений.
Я не прав. Тебе не до забав.
В самой страшной тишине обвала
Ты мне даже смертью доказала -
Даже смертью, как я был не прав. ПЛАЧ ПО СВАНЕТИ
Мне нужен предлог - не пролог:
Я Гигу и Сару услышу!
Сквозь щели и сквозь потолок
Дымок полетит - через крышу.
Увижу я тот же очаг,
Сундук для муки из Чаргали.
(Опять не почувствую гари -
Но слёзы в крестьянских очах.)
Увижу я в щель и орла -
И клюв, и прикрытое веко.
"А Лора твоя?" - "Умерла
В тот день, когда умер Алеко".
И Сара достанет конверт:
"Вот ваше тбилисское фото…"
И кто-то окликнет кого-то.
И башни потянутся вверх.
Теперь уж не так высоко -
Не выше, чем воздух Тифлиса,
Чем песенка та - "Сулико",
Которую пела Лариса.
Я столько сгубил, а не спас!
Я струсил во дни перестройки.
Меняя больничные койки,
Наверно, боялся за вас.
Успеть бы. Ведь я всё старей.
И, самое главное, вроде
Денёчки "открытых дверей"
Для вас и для нас на исходе.
Засовы гремят уже. Но
Ещё не сработало что-то.
И башни. И тень вертолёта.
И с пёсиком наш Мимино.
Пройду я по старым следам,
Возьму вашу древнюю начу .
А клятва… К чему она вам?
Последнюю встречу назначу.
Не всё же сгорело дотла.
Мы двинемся завтра в Ланчвали.
Араку варить не пора ли?
У медного сядем котла.
Вот кресло для Гиги. О ком
Заржут возле пропасти кони?
На троне примерно таком
Всевышний сидит на иконе.
Преставился дед Николоз.
Вбил гвоздь в домовину по шляпку
И маков альпийских охапку
Убитой Ларисе понёс.
Немного старинных деньжат
Держал в тайнике он. И что же?
Забыл, где монеты лежат.
И вам не найти их, похоже.
"Ищите мой клад, - говорил. -
Таких больше нету в Сванети.
Монеты бесценные эти:
Архангел на них - Гавриил".
А вам откопать суждено,
Случайно разрушив кладовку,
В местийском кувшине зерно,
Со стрелами лук и кремнёвку.
Не золото, не серебро.
И Сара вздохнула: "Не слишком".
И всё же теперь вы - с ружьишком:
Стреляет, хотя и старо.
Пойдём мы в церквушку, как встарь.
Ветшает она год от года.
Четыре стены и алтарь.
Горящие угли у входа.
В пристройке лепёшки пекут.
Пора помянуть Николоза.
Араку заносят с мороза
И ставят бутылки в закут.
Сюда проникает снежок,
Любых непогод отголоски.
Ты, Гига, свечу бы зажёг.
Гляди: не иконы, а доски.
Мальчишка, почти что босой,
Впорхнёт, да и выпорхнет снова.
Касается лика святого
Снежинка, стекая слезой.
И я за себя и за Русь
Впервые Джеграгу святому,
Георгию то есть, молюсь,
Тоскуя в Сванети по дому.
А рядом - старуха с клюкой.
За Сару молюсь и за Гигу.
Они рукописную книгу
Читали - строку за строкой.
Вернёмся, и Гига возьмёт
Чунир , этот голос печали.
И выцветет вдруг небосвод,
Как древние фрески Латали.
И вздохи. И всхлипы. И прах.
Обвал. Одиночество. Буря.
Нашла-таки воина пуля.
Охотник разбился в горах.
Все плоские крыши в снегу.
Я трону холодную начу,
И руки себе обожгу,
И вздрогну, и за спину спрячу..
Горит на полу ламтварал ,
Три глаза бычачьи прищуря.
Обвал. Одиночество. Буря.
Так Гига ещё не играл.
НАРОДНЫЙ МОТИВ
За решёткой водопады
Рушатся на валуны.
Сами мы себе не рады,
С волею разлучены.
Гнить не захотелось в хлеве,
Золото искать в дерьме, -
А теперь мы в древнем Хеви
В крепостной сидим тюрьме.
Многим помнятся поныне
Наши злые языки.
Вот и князю и княгине
Насолили, дураки.
Нет воды ни капли в кружке.
Солнцем давится плато.
Но за нас вон в той церквушке
Не помолится никто. ВОЗВРАЩАЮСЬ В ЗАНАВИ
Опять всё то же. Оползень. Осада.
А может, мы давным-давно в плену?
Но я в оконце южного фасада
Обители занавской загляну.
Там даже не оконце - прорезь, в общем.
А свет оттуда? Господи, - какой!
Так что ж мы с вами втихомолку ропщем?
За здравье надо, мы - за упокой.
И где часовни наши, Бога ради?
И где орёл? И где его скала?
Ведь сказано недаром: души рабьи,
Судьба вам общий саван соткала.
В углах медвежьих скоро снег растает.
Медведей больше нет, но есть углы.
И лишь из веры сердце вырастает,
Как вырастает крепость из скалы.
АНТИНОЙ В АРМАЗИ
Разбужен грузинскою речью,
Он сбросил лавровый венок,
Подумал: "Кого же я встречу?
Неужто я не одинок?"
Увидел, что ветка кизила
У входа в гробницу цвела.
И вспомнил, что горло пронзила
Ему Одиссея стрела.
Зачем эти странные люди
Идут с ним к гремящей Куре,
Как будто и впрямь он на блюде
И солнце горит в серебре?
"За стол с Пенелопой не сяду,
Не буду её женихом.
Когда же вернусь я в Элладу,
Хотя бы на кляче верхом?
Когда эти горы покину?
Итаку найду или нет?"
И кличет, и кличет Афину -
И звон колокольни в ответ. МОЛЬБА ПОДСТРОЧНИКА
Не найдёшь реки во мне, убогом,
Лучше словом валуны тащи,
Бейся в берег каждым пенным слогом,
Чтобы слышать в ветре свист пращи.
И заговорит река Рехула
В первый раз с тобой наедине,
Чтобы и в строке она вздохнула
Грудью тех, кто здесь лежит на дне.
Самым сострадательным глаголом
Души убиенных утоли.
Стань Вахтангом, Саввою, Григолом,
Выбей зубы хану Фатали.
Если ж вдруг Рехула замолчала
И в бессильи бьюсь не я один,
Это значит - в замках Квемо Чала
Призраки сошлись среди руин.
Прикоснись ко мне - я возликую,
Прозой награжу тебя былой
И, почуяв тетиву тугую,
Стану самой лёгкою стрелой.
ТБИЛИССКИЕ НАБРОСКИ ОБ ОТЦЕ
1
Позабудь, что мы жили в бараке,
О допросах забудь. Посмотри:
Твой автобус уходит во мраке,
Без водителя. Яркий внутри.
Тот автобус с заглохшим мотором,
Не сигналя и не тормозя,
Стал добычей пути, о котором
И сказать-то словами нельзя.
"Подожди! Это снится всего лишь!
Всё - в моём воспалённом мозгу!"
И сказал ты: "Напрасно неволишь.
Я вернуться уже не могу.
И хоть вас обошла похоронка,
Вы на глиняном спали полу,
Только старая наша иконка
С ликом Божьим висела в углу…"
2
На ночь окна мы не закрывали.
Зной июльский тебя истерзал.
По утрам грохотали трамваи,
Покидая Навтлугский вокзал.
Ты был хмур. Ты не выспался снова.
Что пригрезилось? Шахта и взрыв.
Ты на кухне читал про Иова,
Книгу Книг на прощанье открыв.
Ослабел ты, а мысли окрепли.
"Я суда избежал - не грехов,
Но раскаялся в прахе и пепле,
Как открывшийся Богу Иов.
Были в шахте ослепшие кони.
Где они? Двадцать кляч. Десять пар.
Ну, вставайте. "Мацони! Мацони!"
Заорали на весь Авлабар…" * * *
Гоги побледнел: "Совсем раскис.
Виновата, кажется, дорога…"
Глянул на развалины Корого,
Пошатнулся, выронил эскиз.
"Если что… Марине передашь,
Чтобы здесь искала трёх монашек…"
И подумал, что суёт в кармашек
Дар Гудиашвили - карандаш.
"Забери холсты… они в Ваке…
Кой-кого сбивал я с панталыку.
Разыщи юродивого Кику:
Для него одёжка - в сундуке…"
Девочка несмело подошла,
А за нею - с осликом старуха.
Башни Калакети и Иухо
Уплывали в небо из села. * * *
Я был до ужаса обычен,
К тому ж ещё косноязычен,
Но отчего-то мне везло.
Меня не отвергали боги -
Хута, Резо, Алеко, Гоги.
Я с ними пил в Сабуртало.
Я знал, что рано или поздно
Обман разоблачится грозно -
И спросят: "Кто же ты такой?"
Я с ними пел. И песни эти
Мы продолжали в Тианети,
Где трогал я луну рукой.
И, отодвинув вдруг стаканы,
Я стал читать стихи Светланы
Про Енисей и про Байкал.
Прости, но, может быть, впервые
Вникал я в строки снеговые,
В пургу иркутскую вникал.
* * *
Зарёю майской обожгло
Почти зажившее крыло -
И за тобой несусь, мерани .
В меня стреляли прямо влёт.
Но браконьерам не везёт:
Я в небе в предрассветной рани.
Врезаюсь в солнце грудью всей
Над усыпальницей князей,
Над Элизбаром и Шалвою.
Меня не обезглавил шах.
И ветер у меня в ушах,
Лечу, подхвачен синевою.
Мне стала жизнь ещё милей.
И в птичьей сущности моей -
Связь между лучшими мирами.
Кто нас с тобой, мерани, спас?
Я знаю, чей иконостас
Был освящён в Икортском храме.
Пускай края опалены
У древней крепостной стены, -
Мерани, ты не опечален -
Тем более, что я живой
И что кустами и травой
Всё заросло между развалин. * * *
Лес костями звенит - и безумие в звоне:
Бездыханные дни канут враз, навсегда!
Оттого, как во сне, мои синие кони
К вам прискачут. Да вы уже мчитесь сюда!
Галактион Табидзе
Так земля загрустила о небе,
Что рванулась вослед за тобой.
И весна, и "циспери канцеби"
Вдруг утратили цвет голубой.
Хоть безумная тайна раскрыта,
Тут же новая встала за ней.
Перепачканы кровью копыта
Уносящихся синих коней.
Не пошло предсказанье насмарку.
Стих оставил гадалку без карт.
Проскочил ты последнюю арку -
Мокрым снегом ответствовал март.
Нету слёз. Лишь снежок на подушке.
Кто надел тебе этот венец?
Кто ж ещё, - в деревенской церквушке
Служит службу священник отец.
"Если б знал я тогда в Чиквииси…
Если б в душу река не текла…"
А теперь? Эти горние выси,
Эта грязь и осколки стекла…
БАЛЛАДА ОБ ОТРОКЕ И ТИГРЕ
(Из народной грузинской поэзии)
Отрок улыбался отчего-то,
Тропами Чаухи проходя.
Хороша в родных горах охота.
Наступает вечер. Нет дождя.
Близ вершины, рядом с облаками
Наш добытчик туров подстерёг.
Выстрелил - и те, гремя рогами,
К рощице пустились наутёк.
Он за ними бросился вдогонку.
И в азарте в сумерках пострел
В логово к вчерашнему тигрёнку
(В общем, к тигру) впопыхах влетел.
Встретились двух молодостей взоры.
Юность, разве ты всегда права?
Ну - и в бой. И задрожали горы,
Затряслись кусты и дерева.
Не игрушки это. Дело туго.
И деваться некуда притом.
Передышки не даёт зверюга.
Не прикрыться отроку щитом.
И когтей кольчуга не сдержала.
У обоих раны глубоки.
Вся в крови тигриной сталь кинжала.
Все в крови мальчишеской клыки.
Что ж они наделали, о Боже!
Рухнул зверь, лежит он, не дыша.
Отрок спит на каменистом ложе.
Покидает отрока душа…
Плачет мать: "Могло ли быть иначе?
Знать, гадалкам истина видна:
Предсказали всё... Но в этом плаче
Я, не сомневаюсь, не одна.
И зачем ты без оглядки мчался,
Не смотрел по сторонам, сынок?
Лучше бы ты с тигром не встречался:
Был озлоблен тот и одинок.
Погасили солнце друг для друга.
Смётки у обоих - ни на грош.
Шерсть в крови… Разодрана кольчуга…
Вас, безумцев юных, не вернёшь…"
Плачет, плачет мать: "Какая жалость!
Страшны раны у тебя, малыш.
Как же ты устал, сынок, сражаясь!
Ты же ведь не умер? Ты ведь спишь?
Не на шутку с тигром ты сцепился.
Он с тобой в смертельный бой вступил.
Твой кинжал в ударах иступился.
Я горжусь, что ты не уступил,
Что изведал щит тигриной злости,
Что трусливо ты не убежал,
Что у зверя перебиты кости,
Что не ошибался твой кинжал.
Я тебя, сынок, перекрестила,
Плакать перестала неспроста.
С миром почивай. Твоя могила -
Вечной славы вечные врата.
Видишь, я горжусь тобой у гроба.
Навсегда ты у меня один…"
К ней во сне являться стали оба -
Разъярённый зверь и храбрый сын.
И увечат вновь они друг друга.
То опять клыки терзают щит,
То опять, отброшенный, зверюга
По-кошачьи, кувырком летит.
Мать проснётся, скажет: "Это значит,
Что у тигра тоже плачет мать.
И, наверно, так же горько плачет.
Не могу я ей не сострадать.
Не могу. И соберусь я вскоре
В горы, чтоб найти её жильё.
Выложу бедняжке своё горе,
А она мне выложит своё".
МАРКО ПОЛО В ТБИЛИСИ
В плаще венецианском жарко.
За тридцать, видно. Всё равно!
Он не синьор - он просто Марко:
Такое здесь у них вино.
Тут зелени сдаются скалы,
Тут солнце бьёт из-под копыт,
И у развалин Нарикалы,
Как в тигле, золото кипит.
Ах, Марко, разве нас любили?
В темницу время утекло.
Пусть так, но по-грузински "тбили" -
"Тепло". Конечно же, "тепло"!
И тамада торопит: "Чкара!"
Кто у кого сейчас в гостях?
Все чудеса Мадагаскара -
Муссонный вымысел, пустяк.
Усердно он в карманах шарит…
Бог мой, да здесь добрейший люд.
Не стоит волноваться, скаред:
Тебе вина ещё нальют.
Внимая штормовому гулу,
Он понял, что не одинок,
И вспомнил, весь в слезах, Корчулу -
Родной хорватский островок. * * *
Беззубого волка, глухую тетерю
Отвергни, смеясь, шелковистая прядь.
Кому я следы свои в Тхенши доверю?
Две тропки в селеньи. Что тут доверять?
Книжонку свою? В ней словечки трусливы.
Напрасно её перевёл Теймураз.
А может, туманы, обвалы, обрывы?
А может быть, почерк скалистых террас?
Зачем тебе древняя карта Страбона?
Раскопки зачем у подножья хребта?
И строчку отвергни: она многотонна,
Расколота, будто у храма плита.
Не видел бы Ушбы я, если б не Гига,
Похожий на мельника и на мушу.
Тогда и открылась мне Господом книга,
Которую я так бездарно пишу.
* * *
Что ты знаешь обо мне?
Я из рода Чорчанели.
Прадед - в храме на стене.
Помнишь, как глаза смотрели?
Я пришла откуда? Из
Века прошлого. Оттуда,
Где сады свои Тифлис
Не повырубил покуда.
Опоздала лет на сто -
И развалины за нами.
Не откликнется никто
Из ущелья, из Занави.
Где видала я вчера
Когти каменных грифонов?
Устарели номера
Всех на свете телефонов. * * *
Кура безумствует ночная.
Над ней дома висят наклонно.
Всё та же хашная. Всё тот же
Мостишка. Улочка всё та ж.
А это - призрачность витрины.
Чугунный вымысел балкона.
С моим лицом почти что вровень -
Духи "Кармен", второй этаж.
А на балкончике - Вахтанга
Подруга. Кланяюсь актрисе.
В руках - дрожащая болонка.
"А как зовут её?" - "Жужу.
Вы что, больны?" - "Гораздо хуже:
Совсем не узнаю Тбилиси.
Я вышел к Спуску Элбакидзе -
И нет его. Не нахожу".
И тут - трамвай. Я - на подножку.
Ко мне судьба неблагосклонна.
Скамейки все пусты и жёстки.
Окошко и глаза протру.
Я дом свой, кажется, проехал.
И борода Галактиона,
В осенних лужах отражаясь,
Заколыхалась на ветру.
Но вот звонок. И вот Навтлуги.
Как сладко пахнет керогазом!
Вокзал. Фонтанчик Тариэла.
Да нет же, это парк Ваке.
Где тот балкон? Где та актриса?
Бог весть… Всё завертелось разом.
Всё - и находки, и пропажи.
Всё - на грузинском языке.
* * *
Всё в руинах. Но та же винтовка.
Тот же конь. Тот же воздух вершин.
Плоскоклювая птичья головка
Завершит сасанидский кувшин.
Почему я чужою дорогой
Устремляюсь к чужому огню?
Дом оставлю. Женюсь на убогой.
Скосырянку свою прогоню.
И в себе я увижу Иуду.
Будет память моя коротка.
Неужели я завтра забуду
Трёх товарищей, три языка?
Лист осенний слетит, как листовка,
Где изложена смута моя.
Плоскоклювая птичья головка.
Латалийской араки струя.
* * *
Эм. Фейгину
В Тбилиси старом дождь идёт
Который день. Июль пристыжен.
И звон монет, и звон булыжин -
Бегут ручьи за поворот,
Туда, к Сионскому собору,
Не в будущее, в старину.
И я в их музыке тону.
Тут в детство впасть, пожалуй, впору.
И мне теперь тринадцать лет.
Грохочет гром - а я не глохну,
Я молнию схвачу - не охну.
Я мокну, я полураздет.
Пусть хлещет ливень утром ранним,
Пусть он загнал в подъед мушу .
А я наивен, я пляшу:
Я не убит ещё, не ранен.
Так, может, в хашную пойдём,
Так, может, ты меня уважишь
И там, за столиком расскажешь,
Как мальчик пляшет под дождём.
* * *
Может, пьян я? В памяти - прорехи.
Тут спасенья не найти в вине.
Ветхие балкончики Метехи,
Я пришёл к вам. Помогите мне.
Вы всё те же полночью сырою,
Не дано глядеть вам свысока,
Хоть висите в небе над Курою
И плывёте, будто облака.
Вы плывёте со своим бельишком,
Со своею рухлядью к луне…
Господи, уже полвека с лишком
К вам иду, чтоб помогали мне.
Зря твердят, что не бывает чуда, -
Ведь однажды девушка рукой
Помахала мне тайком оттуда.
Жаль, что не встречал нигде такой. * * *
Скажем об Илларионе.
Было ведь: в расцвете сил
Он в двуконном фаэтоне
По Тифлису колесил.
На циркачку из Парижа
Тратил деньги. Ну а та
Не скрывала, что бесстыжа
И что нет на ней креста.
И французскими духами
Убивала наповал.
Был он счастлив, что в духане
С нею совесть пропивал.
Позабыв о малых дочках,
Докатился до нужды
Ради ямочек на щёчках
Ну и прочей ерунды.
Время шло, и впал он в спячку.
Был вверху, теперь - внизу.
Девку вспомнит ту, циркачку -
И проглотит он слезу.
БОСАЯ ДЕВОЧКА
Переезжая речку Ксани
(В апреле лучше, по весне),
Увидите ту крепость сами -
И ахнете. Поверьте мне.
А там вон - девочка босая
(Мананой, кажется, зовут), -
Бежит, вчерашний день спасая
И всё, что завтра будет тут.
На фоне помнящих осаду
Стен крепостных она легка.
Несутся лая до упаду
Вослед за нею два щенка.
Ну да, она озорновата,
Лукава - это всё не в счёт.
А может быть, царя Баграта
В ней голубая кровь течёт!
* * *
По тебе я не плакал прежде.
Но этою ночью заплачу.
Разве забыть мне
Осеннюю Мцхету, духан и Куру,
Как расплескала ты,
Анной прикинувшись,
Чачу,
Как ты кричала:
"И я никогда не умру!
Мы ведь не нищие, слышишь.
Отдай ему сдачу!"
Как на себя ты смотрела
В зеркало поутру… * * *
Гураму Ахаладзе
Клянутся бесы на Коране.
Не вразумляет их Аллах!
Январь бесснежный в Тегеране.
И факелы на всех углах.
В них те сугробы растворялись.
("Итак, сходитесь, господа…"
Из-за Истоминой стрелялись.
Он секундантом был тогда.
Писал потом, что кровь невинна.
Она дымилась на снегу…)
И снова кровь. "Нахвамдис, Нина!
Прощай! Я больше не могу…"
Теплее сатанинской злобы
Мороз, простреленная ель,
И льдистый лапник, и сугробы,
И та метель, и та дуэль.
Слетела с дьявола папаха.
Очки расплющены в пыли.
Что это - сабля Али-шаха?
А может, голос Фет-Али?
У Фет-Али повадки лисьи,
В шакальем сердце - смерть сама.
Подумать только: все в Тифлисе
Читают "Горе от ума".
В то утро Нина что-то пела,
Его богиня и раба,
Не зная, что уже скрипела
В горах та самая арба. КЕТЕВАН
"Чуть не забыла я об этом бале…
"Назло княгине всё-таки приду!"
Но почему же в ортачальской бане
Сегодня пахнет серой, как в аду?
А тёрщицы восторга не скрывали,
И раболепство было в их руках.
Они ей говорили: "Генацвале!"
И добавляли только: "Вах! Вах! Вах!"
Они таких и мяли здесь и тёрли -
Сверкала ортачальская вода!
Но чтоб вот так перехватило в горле?!
Свидетель это небо - никогда.
Персидской шалью покрывая плечи,
Она в окно глядела на заре.
И проплывали, будто в храме, свечи
На плотике по вспененной Куре.
Конечно, князь их собственной рукою
Зажёг во имя сердца Кетеван.
С какой печалью, с горечью какою
Он сел в пропахший чесноком рыдван?
Ей донесли курдянки как товарки,
Что сохнет он по ней уже давно.
Пусть сохнет! Не нужны его подарки!
Браслет и тот швырнула за окно.
Двор подметая, хищные болтуньи
Не стали молчаливей и добрей,
Когда владелец лодки из Батуми
Прислал ей сизокрылых голубей.
У рыбака прокуренная трубка,
Чуть-чуть дымя, торчит всегда в зубах.
Вот на комоде голубь и голубка -
И нежность голубиная в зобах.
И сладострастно сизый голубь стонет.
Луна садится прямо на карниз.
А что рыбак? Он, может быть, утонет,
А может, скажет: "Уезжай в Тифлис!" * * *
И странно слово вдруг: и с х о д…
Александр Цыбулевский
Ну открой же тайну мне, открой.
Ну хоть намекни, по крайней мере:
Где же ты? В ущелье над Курой?
В Вардзии? И скрылся там в пещере?
Но в какой? Хоть строчкой подскажи.
Может быть, напрасны эти страхи.
В городе подземном этажи
Возвели давным-давно монахи.
Ты любил в духане пить вино.
Так зачем же засиделся в келье?
Там погасли свечи. Там темно.
Чем тебя прельстило подземелье?
Этот факел не тебе несут.
Надо поскорей перекреститься.
Ты у фресок - там, где "Страшный суд",
Где Тамара всё ещё царица.
ГЕЛАТСКИЙ МОНАСТЫРЬ
Древняя обитель.
Майский небосвод.
Спит Давид Строитель
Прямо у ворот.
Так судьба судила.
Он молвой храним.
Тишина. Могила.
Вечный крест над ним.
Спит и видит горы -
Те, что зелены.
Да и те, что голы,
Навевают сны.
Армия Давида
Где-то рядом спит.
У солдат обида:
Нет над ними плит.
Половцами были
Воины его.
Степь одну любили -
Больше ничего.
Тюркские глаголы
Из глубин веков
Оглашают долы
Звоном родников.
КВИШХЕТИ
Ещё покуда "оттепель" в разгаре.
Дал Нонешвили мне "Матрёнин двор".
Нас угощают чачей на базаре
И затевают о Хрущёве спор.
Ещё покуда "оттепель" в разгаре.
И я боржомом чачу запиваю
И слушаю гремящую Куру.
Предательство в горах я забываю
И забываю то, что я умру.
Ведь я боржомом чачу запиваю.
.
Но шорохи ночные не забыты
В кладбищенской тиши, где средь оград
Лежат пришельцев каменные плиты,
Кресты их победителей стоят.
Не всё ль равно: забыты - не забыты…
* * *
Стенали яростно, навзрыд…
Александр Межиров
Ты не проспался, дядя Зурико?
Выходишь ты на улицу в трико.
"Памир" закуришь, стоя у ворот.
А там Манана улицу метёт.
Вся в золоте, орудует метлой.
И думает: "Хоть глупый, да не злой".
А ты в заботах с самого утра:
Опохмелиться вроде бы пора.
Твою щетину бритва не берёт.
Манана усмехается: "Урод!"
Врёт девка. Ты позировал Ладо,
И был Ладо доволен - от и до.
"Шарманщик" называется портрет.
Самой шарманки на портрете нет.
А жаль! Такая в Грузии одна:
На ней русалка изображена.
Ладонью щёчку подперев, лежит
И ждёт, что будет музыка навзрыд.
И вместе с нею нужно к десяти
На Спуск Верийский, как всегда, идти.
Стакан вина - и всё бы по плечу!
"Одно и то же целый век верчу -
И ничего не требую взамен…"
И заиграешь арию Кармен.
III
СЛЕД ОТ ПОСОХА
БИЛЬБАО
В порту на стенах - изумрудный плеск.
Мох на камнях гранитного забора.
И ратуши модерн. И шпиля блеск.
И готика старинного собора.
Бог с ним. Предпочитаю ерунду,
Я радуюсь, что эти звуки вздорны,
Что я за этой музыкой иду:
Ах, как фальшивят флейты и валторны!
Оркестрику на улочке крутой
Не уместиться - вот и лезет в гору,
Туда, где беломраморный святой
Над белою скалой открылся взору.
Я тоже лезу вверх, толпой влеком.
Я тоже руки к вечности воздену.
А вечером затравленным быком
Я выскочу, ослепнув, на арену. МАРИЯ
Детство, детство - поминай как звали!
"Браво! Браво!" - хлопают льстецы.
Что тебе на память отковали
Хитрые цыгане-кузнецы?
А всего-то подарили брошку -
Ей песета красная цена.
Ты была артисткой понарошку,
А теперь без сцены ты больна.
Девочка, ты стала самозванкой,
Пляшущей, поющею цыганкой.
Видно, заразил тебя пример
Самых знаменитых петенер.
Только удивляться я не стану:
Знаю, чьи костры в твоей судьбе.
Помолись святому Каэтану -
Может быть, поможет он тебе. АРАНХУЭС
Весенняя столица королей
Аранхуэс, щебечущая птаха.
С ним рядом протекая, веселей
Становится в апреле речка Тахо.
Такой же эта девушка была!
Как музыки рождающейся иго,
Она вспорхнула вдруг из-за стола
В кафе, где песню сочинял Родриго.
Сама гитара и сама струна,
Вдруг побежала, ветру не переча.
И не взглянула на тебя она,
Не ведая, что значит эта встреча.
А песенку как хочешь назови.
Не до неё. Тут слышен гул органа.
Оранхуэс. Мелодия любви.
Его незаживающая рана.
БУДАПЕШТ
(СЕРЕДИНА 60-Х)
Еду. Что там шепчут за спиной?
Первая неделя. Перегрузки.
У меня в кармане проездной.
Приказали: ни гу-гу по-русски.
Господи, как выщерблен кирпич!
Мне ль забыть солдатскую науку…
Я молчу. А мраморный Ильич
Даже здесь протягивает руку.
Остановка. Свадьба. Храм. Июль.
Но стенная летопись сурова,
Потому что в ней - следы от пуль:
Это шрамы пятьдесят шестого.
Съёжился я. Что там говорят?
Может быть, не обо мне всё это?
У меня в руках - "Хаджи Мурат",
Где репей, не годный для букета. ШАНДОР ПЕТЁФИ
Эх вы, желторотые поэты,
Не для вас цыганские куплеты, -
Про коварство всё, не про любовь.
Сколоти мне, черноокий, зыбку.
Я женюсь. И ты для свадьбы скрипку
С голосом кремонским приготовь.
Кто там врёт: "Гулящая девица"? -
Чтоб вам, окаянным, удавиться.
Не пройду девчонку стороной.
Плюнь, цыган: есть только эти струны,
Да и табор есть, и ночи лунны.
Я приду к ней: "Стань моей женой!"
Ты сыграй, а я скажу: "Прощаю!
Всех вином токайским угощаю!"
Пусть глядят нам с завистью вослед.
Я не знаю в мире лучшей прозы,
Чем когда скрипят в степи обозы.
Для меня - так только ты поэт!"
СВИДАНИЕ С АГНЕШКОЙ
Здесь даже иглы сосен мягче глаз,
Ревниво не дававших нам прохода.
Но вот и Пасха. И к тому ж у нас
Есть время от восхода до захода.
Я прохожу Рыбацкий бастион.
Вот башенка Марии Магдалины.
Я в церкви Николаевской крещён.
Я верю: мы с тобою не повинны.
Но отчего ныряю в тень, как зверь,
С твоим письмом, написанным стихами?
Я постучу. И ты откроешь дверь.
И я тогда плесну в тебя духами.
А ты подашь в ответ стакан вина,
Преподнесёшь пасхальное яичко.
Мне тридцать три. И ты мне спеть должна:
"Зачем из клетки выпорхнула птичка?"
АКВИНКУМ
Здесь прокуратор нежил тело
В бассейне мраморном своём.
Скажи, ну что ему за дело,
Что в нашем веке мы живём,
Что, дождь осенний проклиная
И виноватые во всём,
Уединившись, у Дуная
Мы в сумерках сосну трясём.
Он ждёт, наверное, Катона.
А мы? Что ожидает нас?
У мелководного затона
Трясём сосну в последний раз.
Дробятся фонари в затоне.
Твой жалкий вскрик - в моей горсти.
И я уже готов Юноне
Любую жертву принести.
МАРГИТСИГЕТ
Говорила ты, что мы невинны,
Если только мы любви слабей.
Молоды замшелые руины
Островной обители твоей.
Ты укрылась посреди Дуная,
На дверях не вешала замок
И Христу молилась, вспоминая
Каждого, кто спрятаться не мог.
И твоя молитва не забыта.
Да и как же нам её забыть.
Грешник я, святая Маргарита,
Так что дай мне силы разлюбить.
О КОРОНЕ И ИЛОНЕ
В тронный зал влетела вдруг ворона:
"Хороша у Иштвана корона!
Хороша, да сгинет не за грош".
Не спасали пики и пищали.
Сколько раз корону похищали!
Стыд какой! Неслыханный грабёж.
Поданные Иштвана, не спите!
Вот её хорваты держат в Сплите.
Немцы вслед кричат: "Не отдадим!"
Не бывало большего урона
У мадьяр: ведь где она, корона?
Иштван Первый стал давно святым.
Вновь на подоконнике - ворона:
"Что корона! Где твоя Илона?
Проворонил, горе-ухажёр!"
Да ведь я-то кто? Ведь я писака,
А Илона модница, однако.
Спёр Илону коммивояжёр.
СТЕПНАЯ ПЕСЕНКА
ПРО ДЮЛУ ЧИКОША
Дюла Чикош, а на что мы гожи?
Огонёк в глазах у нас потух.
А вот ты когда-то у вельможи
Йолику отбил свою, пастух.
Мы бы - что? Поникли б головою.
Ты не тратил, Чикош, даже дня:
"Ну, за дело, а не то завою.
Я же не винтовка без ремня".
Саблю взял, как помолился Богу.
В пусте знают, что такое стыд.
В пусте, если выйдешь на дорогу,
Сразу же со всех сторон открыт.
В пусте - ни оврага, ни кургана.
Кой-где кустик. Кой-где деревцо.
Но ведь Йоли до чего румяна,
И у Йоли белое лицо!
Ты отбил невесту на рассвете,
Саблю над вельможею занёс.
И сказал: "Оставь-ка штучки эти.
Тут и без тебя хватает слёз!"
Ну а мы-то… Сам ты, Дюла, видишь.
Сколько их, проглоченных обид!
Если, Чикош, в эту пусту выйдешь, -
Сразу же со всех сторон открыт.
"ВЕСЁЛЫЙ БАРАК"
Говорит он: "К чёрту экивоки.
И скажу я, лабухи, вот так:
Мы - джазмены, мы - в Восточном блоке,
Но зато как весел наш барак.
Пропущу-ка я стаканчик виски.
Чей заквас во мне? И вправду: чей?"
И ответил сам же по-английски:
"Все мы - от цыганских скрипачей".
Летом он Граппелли слушал в Ницце.
Дал зимою в морду стукачу
Розочка горит в его петлице.
"Я напился. Я играть хочу.
Чардаш? Нет. Ведь ночь - для "Звёздной пыли".
Выпьем мы да унесёмся вдаль!"
До сих пор в "Савое" не забыли,
Как смеялся плачущий рояль. АРМЕНИЯ
1
В том мареве - крест Оромоса -
Творенье и слёз, и обид…
Учусь я у каменотёса.
Руинами с толку не сбит.
Что храма того совершенней?
Что этих узоров нежней?
Лишь шёпот полночных растений
И свадебный топот коней.
Не наше ли сердце любило
Ожившего мрамора плоть?
Могло ль ошибиться зубило
И слово любви расколоть?
2
Ты писал, что ветер дунул прахом
Синих трав, что Мариам жива…
Может быть, Нагорным Карабахом
Были продиктованы слова.
Вспомнил и монаха Киракоса,
Дверь его во храме… И о нём
Все твои слова ложились косо,
Будто эти травы под огнём.
Где шаги монаха на рассвете?
Где теперь его читальный зал?
Господи, отныне в двери эти
Не войдут все те, кого я знал.
Рядом с Абраамом и Григором
В райских кущах ты теперь и сам,
А ещё в послании, в котором
Попрощалась с нами Мариам.
3
Это древнеармянские ноты.
Это музыка плач кеманчи.
Таронеци, опомнись! Ну что ты!
Я твой брат, Хачатур. Не молчи.
Сам я кланялся в ножки монголу.
Знаю, как сберегается звук.
Я кончал монастырскую школу,
Где из рук твоих принял дудук.
И воспел я долину Агстева,
Агарцинские горы воспел.
Моя древняя запись истлела.
Что ж, учитель, таков мой удел.
Ты суди нас по-прежнему строго,
На молитвы води, всё равно
Мне с тобою лежать у порога
Монастырского не суждено.
4
Грубоотёсанных камней,
Снежком слегка запорошённых,
Рассказ о венценосных жёнах
Был утром обращён ко мне.
А днём открылся перевал,
Как белый плащ царя Ерката.
Трещали сосны. И тогда-то
Автобус наш забуксовал.
И ты решила, что беда
Как сосны рухнувшие эти
Под снегом. Но не верь примете.
Забудь о ней. Ты молода.
Не зря же Ованес Шираз
Тебе страницу за страницей
Дарил - и там тебя с царицей
Софией сравнивал не раз.
"Пойдём к костру", сказала ты.
И в центре снежной карусели
Собаки умные сидели,
Поджав пушистые хвосты.
5
То снег вершин, то впадины…
Я с облаком плыву,
Чтоб были сосны впаяны
В меня, как в синеву,
Чтоб слово Иоанново,
Чтоб Златоустов клич
В деревне этой заново
Сумел бы я постичь…
С молитвою негромкою
Мелькнул он. Ночь бела.
Сливается с позёмкою
Плаща его пола.
А вот подкова. Вот соха.
Вот той лучины свет
В окошке. Вот от посоха
В сугробе тот же след.
И встану на колени я,
К нему я припаду.
Армения, Армения…
Внизу - Севан во льду.
ИОАНН ЗЛАТОУСТ В ИЗГНАНИИ
Горная деревня. Утром всё в тумане.
Рядом с перевалом для меня приют.
Знают все тропинки местные армяне
И ещё до солнца по делам идут.
Тут немногословны утром разговоры.
Тишину тревожит только детский плач.
Я, антиохиец, изгнан в эти горы.
На крыльце стою я, запахнувши плащ.
С вечера был дождик. Почернел мой тополь.
Но пока не время снегу и ветрам.
Этой ночью снился мне Константинополь,
Снилась литургия, снился мне мой храм.
А в костре потухшем тлеет головешка.
Буйволы пасутся, медленно жуют.
Бог с тобой, царица, пава, сладкоежка,
Рядом с облаками разве не живут?
Запрягает лошадь мой сосед-возница.
И дымок завился над печной трубой.
Вот и вышло солнце. Бог с тобой, царица,
Сладкоежка, пава. Слышишь, Бог с тобой.
* * *
Душа вайнаха, может быть, из дыма.
У нас пропахли дымом сыр и хлеб.
При жизни башня нам необходима.
А после смерти нужен только склеп.
Я каждый день у неба на допросе.
Но не всегда готов я дать ответ.
Чей дом на голом сланцевом откосе,
Где ни тропинок, ни деревьев нет?
Чьи это двери вечностью раскрыты?
В чьих окнах месяц стал роднёй клинку?
Да разве ж не носились тут джигиты,
С земли платок хватая на скаку?
Вон чёрная скала, а там - руины.
Два призрака в руинах - я и ты.
И шепчут нам, что оба мы повинны
Лоховника колючие кусты.
Сегодня всё покрыто щедрым снегом.
И если ты забыл, припомни вдруг,
Что служит нам недаром оберегом,
Твой крест, вайнахом заключённый в круг.
* * *
Попробуй-ка с эхом в горах совладай.
Уже не по тропам, жарой раскалённым, -
Идём лабиринтом, идём по каньонам,
По скальным карнизам к селению Дай.
И брызги, как бусинки, будто с тесьмы,
Внизу водопадом срываются дико.
В одной загорается кровь сердолика,
В другой серебрятся сполохи сурьмы.
Мой друг Ямлихан, вот таким и живи.
Ведь ты ж не тропинка в расщелине или
Мосточки, которые смыты и сгнили.
Ты - горец. Зачем говорить о любви?
Ты здесь выпускал, как твой дед, соколят.
А здесь угодил ты однажды в засаду.
Куда ты? Постой. На минуту присяду.
Мне оползни дальше идти не велят.
Дорогу никто без тебя не найдёт.
Олени отвергнуты дымною чащей.
И только твой сокол, высоко парящий,
Затеял над скальным карнизом облёт.
* * *
Без дорог шагал Он, по дорогам.
Видит: рядом с озером - аул.
С посохом и в рубище убогом
Он сюда как странник заглянул.
Всюду гнали вон. Ногою пнули.
От овчарок Он ушёл едва.
Но совсем забытою в ауле
На краю жила одна вдова.
Всё пропахло дымом в бедной сакле.
Возле очага - вязанка дров.
"Здравствуй, странник!" В общем, так ли, сяк ли,
Накормила, предложила кров.
Вскрикнула: "Да ты в слезах, похоже!"
Над горами просветлела высь…
"Что ж мы натворили… Боже, Боже!"
Пала на колени: "Не гневись!"
* * *
Я с этим ветром мир покину.
Он, как глаза мои, сухой.
И время оттого теснину
Карябает своей сохой.
И запахи с утра полынны.
Упёрся в спину чей-то взгляд.
И сланца тонкие пластины
О том же самом шелестят.
Постойте, ведь однажды летом
На почте нынешней Зиме
Я написал как раз об этом.
Но не было ответа мне.
* * *
Эта башня в небо смотрит немо.
Над скалой давно балкона нет.
А ведь был. И там стояла Шема.
На запястье - бронзовый браслет.
И спускала лестницу оттуда.
И встречала дорогих гостей.
Что теперь? Безвременье. Остуда.
Отзвук песен, посвящённых ей.
Всё - враздробь. Ожесточились все мы.
Рукописи жгли свои не раз.
Мне б туда подняться ради Шемы.
Да куда там - я не скалолаз.
IV
ОТГОЛОСОК
ВИФЛЕЕМ ПОД РОЖДЕСТВО
Путникам открылся наконец
Город, где Иосифа отец
Говорил: "Сынок, наш род - Давидов".
Люди гнали блеющих овец.
Дрогнул на ягнёнке бубенец,
Засветился, будто леденец,
По-ребячьи тайну взяв и выдав.
За ягнёнком тайну вызнал ключ.
Он поймал звезды зелёный луч,
Говорлив, прозрачен и колюч.
В скольких душах он ещё ударит
Звоном не цепей - колоколов.
Сколько самых небывалых слов,
Сколько откровений, сколько снов
Миру он и явит и подарит!
И дрожал овечий бубенец,
Тронув чем-то множество сердец.
Он-то знал, Кто истинный отец,
Зримый всей земною детворою.
И родник хотел снега поджечь,
Выучив евангельскую речь,
Чтобы эту ночь навек сберечь:
"Припади ко мне - я всё открою!" МАЛЬЧИК ИИСУС
Ненужные, лежат в углу игрушки.
Он плотничает. Он вошёл во вкус.
И стряхивает розовые стружки
С волос и платья Мальчик Иисус.
Луч солнечный. Опилки. Их слиянье.
В окошке - трепет блещущей листвы.
Июль. И жаркий полдень. И сиянье
Вокруг Его ребячьей головы.
Скрипит верстак. Но мира отголоски
Доносятся в распахнутую дверь.
Иосиф с полу поднимает доски
И говорит Ему: "Семь раз отмерь…"
Торопятся: ведь завтра - день базарный.
А у Марии грустное лицо.
Освоила Она верстак столярный.
И всё молчит. И крутит колесо. ПОСЛЕДНЯЯ ПАСХА
Спускались они с Елеонской горы.
Встречал их народ, покидая дворы.
Встречали их визги и смех детворы.
Он ехал на ослике в чьей-то одежде.
Но даже и в ней узнавали Христа.
И кланялись люди Ему непроста,
Особо радушные после поста.
Всё было не так. И всё было, как прежде.
Один только Он понимал - почему.
И люди дарили одежды Ему.
"Учитель, мы верим Тебе одному".
И ветки бросали они на дорогу.
Хотелось им слова Его и чудес,
Хотелось, чтоб Он не погиб, не исчез.
И вдруг Он почувствовал близость небес,
Доступную лишь милосердному Богу.
Чертили орланы над ними круги.
А люди просили Его: "Помоги!"
И были они фарисеям враги.
Тогда фарисеи Ему и сказали:
"Откуда Ты взял Своих учеников?
Народ они мутят. Народ бестолков.
Вели же молчать им вовеки веков.
Не жди, Иисус, чтоб и их наказали".
И так Он ответил: "Нельзя им молчать.
Нельзя наложить на уста их печать.
Нельзя, говорю вам. Иначе кричать
Начнут даже эти холодные камни.
Не требуйте. Я говорю вам: нельзя.
Живёте вы в страхе, друг друга грызя.
И знают Мои, а не ваши друзья:
Открыты Мне души, открыты века Мне".
А ветер пасхальный свежей и свежей.
И вступит Он в храм. И прогонит взашей
Оттуда менял, ловкачей, торгашей
И даст голубям наконец-то свободу.
И будет улыбка Иуды хитра.
И что-то прочтёт Он во взгляде Петра.
(Но как же смеялась, визжа, детвора!..)
И грустно поднимет глаза к небосводу.
МАЛХ, РАБ ПЕРВОСВЯЩЕННИКА
Я никогда не нарушал закона.
Ну что ты хочешь, я всего лишь раб.
Да не забудь про гнев Синедриона.
Я слаб, конечно. Ну а кто не слаб?
Об Иисусе всё мне рассказали.
Стоял босой Он и почти нагой.
Ему связали руки. Так связали,
Что от души я пнул Его ногой.
И мне кивнул тогда первосвященник:
"Давай-ка, Малх!" И стих тотчас же гул.
Не думай, я совсем не из-за денег:
Клянусь, я от души Его лягнул.
Потом ещё, ещё. И чертыхнулся:
Мол, ненормальный Ты. Блаженный, мол.
А Он в ответ смущённо улыбнулся.
Да, улыбнулся. И глаза отвёл.
ПОСЛЕ ВОЗНЕСЕНЬЯ
Хоть была Голгофа наяву,
Утром Ты пришёл ко Мне нежданно.
Я не одинока. Я живу,
Как велел Ты, в доме Иоанна.
Чей-то ослик около крыльца.
Улицы обыденные звуки.
Не забуду Твоего лица
И гримасу нестерпимой муки.
И следы Я помню от гвоздей.
Я Твои поцеловала ноги.
Я решила быть среди людей,
Выбрала, Сынок, Твои дороги.
Ходят к нам Твои ученики,
Просят у Меня благословенья.
Ты не осуждай Моей тоски
Ныне, в годовщину воскресенья.
Если ночью не смыкаю глаз,
Я с Тобой. Меня Ты не оставишь.
И в "Сионской горнице" для нас
Ты опять Своё бессмертье явишь.
Тянутся томительные дни.
Знает мир: пуста Твоя могила.
Ну а тех, кто требовал: "Распни!",
Я и пожалела и простила.
МАРИЯ ЕГИПЕТСКАЯ
Я не имела своего угла.
Меня стыдилась нищенка-старуха.
Она вослед шипела: "Ну и шлюха!"
Но у мужчин я денег не брала.
Зосима, отче, нет прощенья мне.
Была доступна я и солдатне,
И торгашам, на всё для них готова.
Один матрос меня на корабле
Позвал, куражась и навеселе,
И я пошла, не проронив ни слова.
Когда же Иерусалимский храм
Мне двери не открыл свои ни разу,
Себя я ощутила как проказу,
И как чуму, и как кромешный срам.
И мне за то удел был высший дан.
Я поняла: так жить - невыносимо.
Три хлеба я взяла с собой, Зосима,
И плача перешла за Иордан.
Тот день я помню, отче, и поныне.
Я наконец была одна в пустыне.
И лев прошёл спокойно стороной.
Здесь только Бог беседовал со мною.
Смотри, я воспаряю над землёю.
Ведь это Он, Зосима, правит мной.
Я о пощаде и не заикаюсь.
Я сокрушаюсь каждый день, я каюсь.
Благослови - молю тебя в тоске.
Неграмотной росла, жила в незнанье.
Но я своё оставлю завещанье -
Вот здесь же начертаю, на песке.
ДВЕ ЗАПИСКИ
1. ЖЕНЕ
Пусть не притронуться - взглянуть,
Узнать упавшую на грудь
Ту, петроградскую, косынку,
Слизнуть солёную слезинку.
А дальше… там уж как-нибудь.
А был ли тот Зелёный Дом
В Бутырском Хуторе и в нём
Курсистка (в облаках витала,
А также в главах "Капитала")?
Давай туда мы завернём -
Чтобы к Ханжонкову в кино
Пойти. Как было там темно!
Слепящий луч бродил в Нью-Йорке,
Искал на новогодней ёлке
Детей, одетых в домино.
Жизнь всё давала нам взаймы!
Под Нижним Новгородом мы,
Где бьют на ярмарке фонтаны.
И мы целуемся. Мы пьяны.
Коврами устланы холмы.
И казачки пускались в пляс.
И Собинов рыдал для нас,
И ты была не то, что Недда.
И я забыл слова: "победа",
"Подполье" и "рабочий класс".
Но… хватит. Есть лишь пять минут.
О Господи, что скажешь тут.
Спешу, чтоб не подвергнуть риску
Друзей, которые записку
Тебе тайком передадут.
Меня б, наверно, Киров спас.
С ним в бой ходили мы не раз.
Мы вместе в Астрахани были.
(Зачёркнуто: "Ногами били…")
Вот и аукнулось сейчас.
Всё было на моём веку.
Рубил я шашкой на скаку,
Как будто бы Чапай, с оттяжкой.
Представь себе, той самой шашкой
Теперь снесут мою башку.
Вложил бы шашку я в ножны:
Живым живые мы нужны -
И вот хоть что, хоть ставьте к стенке!
Прочь, Емельяны! Сгиньте, Стеньки!
За мной прийти сейчас должны.
К твоей косынке я приник.
Найди мой каторжный дневник.
Пускай его читает дочка.
Я перед Богом каюсь. Точка.
Так и скажи ей. Напрямик.
2. ОТЦУ
Отрёкшемуся сыну нет
Прощенья. Знаю твой ответ.
И к твоему иду порогу.
Известно мне, что тридцать лет
Ты за меня молился Богу.
Опять метелица мела.
И вновь златились купола
В ветвях заснеженных. И снова
Шептал: "Да не сгорит дотла
Душа, лишённая Покрова.
Я сына проморгал. Беда.
Он был мальчонкой. Он тогда
Со мною зажигал лампадку.
К нему сходила на кроватку,
Сияя, Рождества звезда.
Отец, мне б - к твоему крыльцу,
Впервые бы - лицом к лицу,
Чтоб ты прикрыл меня собою,
Чтобы рукою голубою
Погладил. Всё идёт к концу.
Сегодня вспомнил поутру
Москву-реку, Спас на Бору,
Тебя напротив нашей школы,
Избу отшельника Вуколы.
Всё это я с собой беру.
Мы встретимся когда-нибудь.
Ах, если б только всё вернуть -
И сосны, и на соснах свечи,
И наш с тобой тот самый путь
В снегу до церковки Предтечи!..
ЗАПОЗДАВШАЯ СТРОЧКА
Хоть уже не хватало тепла,
Хоть уже истощалась рассрочка, -
Независимо Клязьма текла,
Как моя запоздавшая строчка.
Или, может быть, наоборот,
Потому что, отчаявшись даже,
Славил Бога, как тот нищеброд,
Увязал в самом жалком пейзаже.
* * *
Дай набросок - и я пририсую
Четверть века спустя этот путь
По ухабам, по небу - к Присурью,
Ну а ты посговорчивей будь
И тетрадку в линейку косую
Уничтожь и забудь как-нибудь -
Не автобус, не ель, не косулю -
Ту бесстыжую девку босую,
Чтобы я тебя сдуру не спас,
Сердце птичье и взгляд этот птичий:
По чернющей поверхности глаз
Плыл куда-то на север Возничий,
Плыл куда-то на юг Волопас.
Отчего же бездарный набросок
Пахнет деревом, мокрой корой?
И полоска тумана… и в росах
Выше, чем на приволжских откосах,
Где далёк катерка отголосок,
Где сорваться нетрудно порой…
Это финно-угорский обычай.
Это ночь. Это Яблочный Спас.
Это ткнувшийся в берег баркас.
Это нежность скрипичных обличий.
Устремлённый на север Возничий.
Устремлённый на юг Волопас.
* * *
Александру Ревичу
"Это не сказка, - внушал мне Дидро. -
Не за эльзаской гоняйся - за словом".
Малые дети, возьмите ведро -
Вот оно, с солнцем и с прочим уловом.
Сколько рыбёшки попалось? Бог весть.
Всё-таки, думаю, будет ушица.
Главное - на ночь молитву прочесть,
Чтоб на танцульках всю жизнь не кружиться.
Вы не ходите на мой бережок:
Здесь разогнали всю рыбу монахи.
Красный фонарик здесь кто-то зажёг.
Слышатся взвизги, да охи, да ахи.
V
ВИШНЁВЫЙ ПЕРЕУЛОК
ПЕРВЫЙ ДНЕВНИК
Я ещё никого не теряю.
Я ещё не любую строку,
Не любые слова доверяю
По ночам своему дневнику.
Часто почерк горяч и неловок.
Здесь не только полынь и чабрец.
Здесь немало девичьих головок
И пронзённых стрелою сердец.
Это послевоенные годы.
Лихорадки июльской азы.
Ощущенье недетской свободы
Как степной и опасной грозы.
* * *
В последний раз через Бахмутку
Иду по мартовскому льду
И свёртываю самокрутку
(Махорку у отца краду).
Я в школе не решу задачу,
Потом с уроков убегу.
Подальше свой дневник запрячу,
В нём - твой беретик на снегу.
В нём допоздна в толпе толкаюсь
(Плечом прижаться бы к плечу…)
И, как Печорин, я не каюсь,
И, как Грушницкий, не шучу…
И всё-таки снега сгорели,
И содрогнулся небосвод.
А что произошло в апреле -
Про то иной рассказ пойдёт.
* * *
Кем я был? Повестушкой короткой,
Тою самой подводною лодкой,
По которой соскучилось дно.
Я был узником всех одиночек.
Ты моих не запомнила строчек.
Отзовусь я тебе всё равно.
И не лгу я, что лиственным словом
Отзовусь в переулке Вишнёвом
И в шиповнике вдруг прошуршу.
Или в поле, меж теми стогами,
Стану я золотыми слогами,
Недоступными карандашу.
* * *
Как кошка, падаю на все четыре лапы,
Не становясь от этого умней…
Светлана Кузнецова
Перстни с кольцами снять уж пора.
Из ушей надо вынуть серёжки.
А теперь говори до утра,
Как живут камышовые кошки.
Были заросли прежде густы,
Но они продирались повсюду.
И вздымались победно хвосты.
Не забуду тебя, не забуду.
Пусть вода по соседству темна,
Словно страсти кошачьей изнанка.
Как знакома мне эта спина,
Все изгибы её и осанка!
Слыша сердца тугие толчки,
Рвутся жилы высокого стебля,
Чтоб зрачки поглощали зрачки,
Это жёлтое пламя колебля.
В них пощады не сможешь прочесть.
Но глаза не напрасно жестоки.
Просто шерсть, задевая о шерсть,
Исторгает зелёные токи.
Просто чуткие лапы горды.
Просто хищно смыкаются веки.
От когтей и от воплей следы
В камышах остаются навеки.
* * *
Анне Лоран
Была поэма девять лет назад.
И не при чём тут Люксембургский сад,
Квартал Латинский, где всю ночь не спят.
Ещё нет листьев и уже нет почек.
Парижская весна без проволочек.
Губительна она для одиночек.
Кто виноват? Да я и виноват.
Была поэма девять лет назад.
А что осталось? Только девять строчек. КОЛОМЕНСКИЙ ПРОЕЗД
Яблоням в апреле не до славы,
Низкорослы, скрючены, корявы…
Для чего писать автопортрет?
Новый бриллиант в твоей короне.
А у нас один фонарь в районе -
Да и тот погас. Считай, что нет.
Юго-Запад - в самый раз принцессе.
Фрэнк Синатра - вот он, в "Мерседесе".
Ну а я не стану клясть судьбу.
Мне б туда, где нотными значками
В окнах Млечный Путь горит ночами, -
Денег на такси не наскребу.
И скормлю я мусорному баку
Лирику свою, возьму собаку
И пойду сквозь дождь к Москве-реке,
Но не для того, чтобы топиться,
А затем, чтоб тёплая водица
Хлюпала в дырявом башмаке.
Ресторан пустует у причала.
Жаль, что жизнь нельзя начать сначала.
Ничего я снова не начну.
Норковые шубки входят в моду.
А твои ключи я брошу в воду.
И они, сверкнув, пойдут ко дну.
* * *
Мазками солнца палая листва -
На валунах и на сосновых лапах.
И, как горбушка, тут земля черства.
И еле уловимый хлебный запах.
Зачем тебя я к озеру привёз?
Зачем читал державинскую оду?
Тогда не бухал, как сейчас, насос,
По-воровски выкачивая воду.
Вон сколько стало новых островков!
Не это ль знаки рыбьего замора?
А я - старик. Ты погляди - каков.
Как будто пёс у ветхого забора.
Вот встретиться б с тобой! Всё ль молода?
Задать тебе всего два-три вопроса.
Но тот насос бухтит, как никогда.
И, может, только слову нет износа.
* * *
Колечко унесла сорока.
Порхнула мимо голубей.
А ты не плачь, а ты попей
Квас из берёзового сока.
Ишь, как на волю рвётся грудь!
И мягки в огороде грядки.
Сорочьи не твои ль повадки?
Что ты нацелилась стянуть?
То для подружки лишь загадка.
Недаром же её дружок
Твой сарафан семь раз прожёг.
Заплатка тут, и там заплатка.
Уж он такой. Всё - напролом.
Паслён в росе. Кругом - окурки.
И пахнет от его тужурки
Соляркой и чужим теплом. * * *
О.Г.
Нет домов в Вишнёвом переулке -
Лишь глубокий голубой просвет.
Это точно так же, как в шкатулке
Нету писем и записок нет.
Только где-то детский голос слышен -
Может, за оврагами, внизу.
И варенье варится из вишен.
Где - не знаю. В золотом тазу.
Разве ж не топились эти печи,
Не спалось в берёзовом дыму?
Мы с тобой поставим в храме свечи,
А за что - не скажем никому.
* * *
Сорняков не прополол.
Застил выход гостье.
Знал не только наш Подол,
Знало всё Замостье.
И, короче говоря,
Говоря короче,
Прожил я почти что зря,
Зря я прожил, отче.
Я с тобою. Я нигде.
Облачко над Пакшей.
Припадаю к бороде,
Ладаном пропахшей.
Вот уж верно: сам не свой.
А ведь думал: ровня.
Поросла вконец травой
Марьина часовня.
КОРОЛЬ ЧЕРВЕЙ
1. Н И К А
Экскурсия. Галдёж. Пришли всей школой.
Вон коромысло, сплющенный насос…
"Конечно, дети: Дьяково - под снос!"
И отмечают новость пепси-колой
И чужаки, и те, кто здесь возрос.
На грядках - перемёрзшая капуста.
Переезжают все. "А вы, дедусь?"
"А я тут и помру. Я не сдаюсь.
Без Дьякова Коломенское пусто.
Я - пень корявый. Вот и остаюсь".
Но разве я избу его обрушу,
Нажму рычаг: "Не съехал? Ну и ну!
Властям не сдался - сдашься чугуну.
А ты отведать не желаешь "грушу"?"
И перед тем в окно не загляну…
"Вас как зовут-то?" - "Можно - Никодимом".
Толкуй теперь о думах, о былом…
Экскурсия ушла. И за углом,
Как в тупике забытом, нелюдимом,
Я догадался: всё идёт на слом.
Да, Ника. Всё. Побег. Вино. Кодори.
Скалистый берег. Лошадь без подпруг.
И телеграмма: "Ты не муж, не друг".
И снова - крах. Пришёл конец "love story" .
И, кажется, пришёл совсем не вдруг.
"А был тот домик?" - "Был. Между горами".
"А где сейчас он?" И сказал я: "Где ж…
Там, где проехал свадебный кортеж,
Соря вовсю воздужными шарами,
И где соседи резались в шеш-беш".
Кортеж помчался к соснам перевала,
Сигналя и гудя - как на пожар.
И пыль. И голубой воздушный шар
Берёза наша так и не поймала…
И ты уже никто. Шпана. Клошар.
На ладан дышишь. На себя взгляни-ка.
Ты схож уже с Иваном Ильичём,
Как Никодим (заваленный причём)… -
И, захихикав, уточняет Ника:
"Трухой завален, битым кирпичом".
Ах, Ника. Ах, невынутый осколок.
Вот-вот - и я останусь без угла.
Кричишь: "Тебе звонит Махачкала
За Ригой вслед! Зачем?" И с книжных полок
Всех поэтесс во гневе убрала.
Гнала позёмка грязную солому
По Дьякову - неведомо куда,
И со столбов свисали провода…
И я, вчерашний, сам подвергнусь слому?
И чей-то голос мне ответил: "Да".
…А дальше что? В Коломенском всё те же
Находки, и потери, и приют,
Но почему-то соловьи поют
Над берегом Москвы-реки всё реже.
И я почти что не ночую тут.
Ещё я не готов писать поэмы.
Да и о ком? О молодом Петре
И о преображенцах на заре?
Сказала Ника: "У тебя проблемы -
Как будто камни в жёлчном пузыре".
Ждал взрыва, самому себе переча.
Решила Ника, что она хитра,
И за оврагом молвила вчера,
Что на погосте Иоанн Предтеча
Среди могилок ходит до утра.
"Не утешай. Молчи. А то завою.
Страна больна - и, значит, я больна.
Дай руку". И добавила она,
Что здесь усекновенною главою
Казалась ей над церковью луна.
И тут же: "Повстречать бы эту шлюху!
Ишь, как напрягся. Ишь, король червей…
Уматывай, да только поживей.
Ни слуху чтобы не было, ни духу.
Когда-нибудь я плюну в рожу ей!
2. ДОНА АННА
Придуманною за собою слежкой
Я вдохновлялся и нырял в метро.
Жилплощадь ей нужна и всё добро.
Пожалуйста. Дом творчества ночлежкой
Ещё послужит, если бес - в ребро.
И я утешусь музыкой органной.
Будь проклят коммунальный коридор!
Обрушатся пусть страсти в до-минор
И надо мною и над Доной Анной
(Её не возревнует Командор).
Не для неё ль решительно и сразу
Медовый Спас из воздуха воздвиг
Охапку самых бархатных гвоздик,
А заодно на подоконник вазу
Хрустальную поставил в тот же миг!
А вы-то что ж, воспитанницы клавиш, -
Коснитесь, пальцы Анны, лепестка.
Пройдёт секунда. Может быть, века.
Вот это след! Нежнее не оставишь.
Ты замечай, пока ты с ней. Пока…
Так где ж тот шарик над Кодори? Где же…
И молвит Анна: "Разве ты со мной?"
"С тобою". - "Нет. По-моему, с женой.
Я - до пяти!…" - "Потише. Мы - в коттедже.
Здесь каждый звук услышат за стеной".
Я вспомнил: детство… ночь… Среди оглобель
Лежал я смирно. Был Азов дремуч.
А из возов: "Помучь меня… помучь…"
"Да, Анна, ты слыхала про Чернобыль?"
"А что стряслось? Ты дверь закрыл на ключ?"
……………………………………………………
Была рябина осенью пуглива -
Некрасовская муза под хлыстом,
Искала что-то в сердце холостом.
Нет больше дома. Больше нет архива.
За этим ли бежать, за тем листом?
Так вот оно - "ни слуху чтоб, ни духу…"
Но что твой адрес - даже для родни…
Все дни теперь - чернобыльские дни.
В издательство идёшь - неси порнуху,
Тельняшку с треском на груди рвани.
Поблескивает облако свинцово.
Дрожит окно в двенадцатом часу.
Нашла Козетта, помню, двадцать су.
А я-то что нашёл? Вот это слово?
Не этим словом душу я спасу.
И ночь дробится от раскатов грома.
А слово… лучше помолчать о нём.
И мы себя с тревогою клянём
За то, что нам молитва незнакома.
И ливень изгибается огнём.
Ноябрьская гроза. Полузакрыты
У нас глаза. И как же нам видна
И наша уязвимость, и вина,
И ненадёжность клятвы и защиты,
И та часовня, что внутри темна.
ГАДАНИЕ СВЕТЛАНЫ
Материнские карты разложит,
И в глаза не посмотрит она,
Только спросит: а вправду ли сможет
С террикона скатиться луна.
Карты старые, с прииска "Лена",
Что король, что валет - всё одно.
Возлежат таитянки Гогена
На клеёнке. И тут же - вино.
Как там карты сошлись? Ожидаю.
"Да не жди. Пей вино, весельчак.
Я, наверно, напрасно гадаю,
Потому что всё ясно и так".
* * *
Бубновых и червовых нет мастей.
Идут одни трефовки и пиковки.
"Пас!" - говорю. А листья всё красней.
И всё ползут к трамвайной остановке.
Они на рельсах - будто знак беды.
И прилипают намертво к брусчатке.
Уничтожает дождь мои следы
Проворней, чем преступник - отпечатки.
И козыри мои пришли к концу.
И через эту лиственную вьюгу
По рельсам, по Бульварному кольцу
Бреду - и всё по кругу, всё по кругу.
* * *
Не "прощай" говорю - напиши,
Чтоб с рассветом я скрылся на лодке,
Чтоб замкнулись за мной камыши,
Озерцом ослепив посерёдке.
Наконец мы побудем вдвоём
Одинокой, сиротской порою.
Может статься, что в слове твоём
И тебя, и себя я открою.
Прежде письма я слал Иртышу,
Чтобы ты иногда отвечала.
А теперь тебе книги пишу,
Но они без конца и начала.
* * *
Больше нету оказий
Кроме музыки… Но
Во дворце Эстерхази
Закрывают окно.
Он играл там. Не смейте!
И, пробив глухоту,
Он приблизил бессмертье,
А не женщину ту.
* * *
Ты оттуда, где я занемог,
Где гармошка любовью разбита,
Где речушка - почти ручеёк,
Не лизавший ни разу гранита,
Где никто, на беду, не привык,
Хоть и выцвела "синияя блуза",
Понимать негритянский язык
И рэгтайма, и свинга, и блюза.
В Канзас-Сити пускай в кабаре
Рождество, саксофоны и трубы…
У тебя ж воротник в серебре
И по-детски припухлые губы.
Нет, не Лестера Янга рука
Нажимает на клапаны. Что ты!
Кто придумал, что жизнь коротка?
В каждой ноте смакуем длинноты.
Нам не нужно бенгальских огней -
Вот что значит труба золотая.
А дышать всё трудней и трудней,
Всею грудью снежинки глотая.
Сгинь навек, придорожный кювет!
Сгинь навеки, разбитая фара!
Ведь когда, что тебя уже нет,
Джанго Рейнхардта скажет гитара?!
* * *
"Скажешь, я глупа, а ты умён?
Не простишь Иркутска мне и Риги?"
Что ты, нет! Но из мужских имён
Все твои лирические книги…
Мы с тобой костры недаром жгли.
Предстояло жить нам друг без друга.
Чтобы мы аукаться могли,
Лет пятнадцать не стихает вьюга.
* * *
Для чего же мне спрашивать: где ты?
Просто в памяти я берегу
Дворик твой и упавшей монеты
Отпечаток на первом снегу.
И как ты, подавляя усмешку,
Удивлённо глаза подняла:
Ведь монета упала на решку.
Нет бы взять и упасть на орла.
ШАХТА "СКОСЫРСКАЯ"
Ей это вовсе не впервой.
"Ну что, поехали, сударик?"
Фонарик трётся о фонарик.
"Здесь и служу я стволовой".
В забой на час - и на-гора,
И в клуб. А там - занятья с хором.
Мы с ней повенчаны Мисхором
И возвратились лишь вчера.
Она с толстенною косой,
Дочь одноногого парторга.
Дарю ей клипсы из Мосторга
И в дождь лечу за ней босой.
И гром. И в памяти - провал.
В домах забиты ставни. Точка.
И, может быть, подскажет дочка,
Где я когда-то ночевал.
* * *
Раскрыты окна были нараспашку.
Она сказала: "Что стоишь? Закрой".
Надела молча нижнюю рубашку,
Потом - один чулок, потом - второй.
Акаций дух. Вечерняя истома.
Но кто опишет девичье бедро?
А мой братишка выносил из дома
В тот самый миг помойное ведро.
И что с того, что было понарошку
Всё - эти руки, этот жадный рот.
Она меня, как скомканную трёшку,
За пустячок в базарный день швырнёт.
И, в сумерках на женщину похожа,
По площади Соборной шла она,
В коротком сарафане, смуглокожа,
Со мною, но подчёркнуто одна.
Как мог я разгадать её загадку?
"Беги домой. Тебе пора в кровать".
И тут же поднялась на танцплощадку
Со взрослым кавалером танцевать.
ОСЕННЯЯ ОТТЕПЕЛЬ
Не тянет давненько к заснеженным высям,
Чтоб, цель среди скал выбирая, кружить.
А сколько моих непрочитанных писем -
Бог мой, мне хотя бы полстолька прожить!
Но это ведь к лучшему - что не читала.
Ошибся я адресом - вот в чём беда.
Был вторник вчера. И кусты краснотала
Засыпала ржавой листвою среда.
В тех письмах - не наши с тобой комнатушки,
И запах несвежий чужих простыней,
И сгиб локтевой в переломе подушки,
И шёпот невнятный, оставшийся в ней.
Дай вспомнить: а чем же ты мне угрожала?
Наверное, тем, что заплачу не раз.
Во вторник был в рощице всполох пожара,
А в среду - и солнце, и пламень погас.
Вернее, он тлеет себе понемногу:
Недаром дымящийся ливень иссяк…
А вдруг перекинется через дорогу,
Туда, где осинник, туда, где сосняк?
Охватит беседку, соседнюю дачу,
Затем не спеша подползёт к шалашу…
Так где ты теперь? И хотя я не плачу,
Но всё-таки запахом гари дышу.
* * *
Август. Ночь. Леоновская дача.
Прошептали ветки слово "соть".
Я подумал: "Вот ведь незадача,
Здесь забыли грядки прополоть".
И хозяин щуриться не будет,
Вглядываясь полночью в тетрадь,
И тебя, как раньше, не разбудит,
Чтобы "Пирамиду" диктовать.
Если б дверцей скрипнула сторожка,
Побежал бы пёс тебе вослед,
Знал бы я, что хлынет из окошка
В темень сада тот же самый свет.
Я б сказал: "Царевна Несмеяна!
Даже пёс ко мне уже привык.
Это ли не рукопись романа -
И не черновик, а чистовик!"
Август. Ночь. Леоновская дача.
Тучи на луну летят вразброд.
И совсем как нищенская сдача -
Медь листвы у запертых ворот.
* * *
Ну так что же я? Неужто обездолен?
Из Щербинина хоть словом отзовись.
Не бывает птичьих гнёзд у колоколен.
Но для этих и для тех открыта высь.
У тебя в саду весёлый щебет птичий.
А на улице моей колокола.
Вот и есть теперь у нас такой обычай:
Две дороги, две иконы, два угла. * * *
Писать бы Вас тургеневским пером,
А не моим. Но только описать бы
Тот самый дух помещичьей усадьбы…
(Перекрещусь, пока не грянул гром!)
Венецианские Вас любят зеркала
Не меньше, чем уланы и гусары.
Мазуркой первой бредят эти залы.
"И ты?" "И я! Ведь до чего мила!"
"Ну да. И неприступна, чёрт возьми".
… Прошли года. А Вы ещё милее,
Особенно когда Вы по аллее
В столовую идёте с дочерьми.
"Ну, каковы?" - "А, ты про трёх сестёр!"
…Прошли года. А Вы ещё моложе.
(Прости мне строчку, милосердный Боже,
Которую, одумавшись, я стёр.) * * *
Под деревянной рясою аббата -
Бутылочка. Спасибо старине!
Хотя сливянка эта слабовата,
Да крепче, чем любовь твоя ко мне.
Розовощёкий, толстый, будто кружка,
Стоит на полке кёльнский хитрован.
И предлагает выпить нам пьянчужка,
Увидев, что закончился роман.
Внутри, где голова, сокрыта пробка.
Блестят глаза прохвоста озорно.
Пей за разлуку. Не гляди так робко.
И я не откажусь. Мне всё равно.
Давно с тобою не играю в прятки.
Недаром ухмыляется аббат.
Когда я соберу свои манатки,
Скажу, что только он и виноват.
Скажу, что он, конечно же, мошенник,
Что я его простил уже почти.
Ну, будь здорова. Доставай свой веник,
За мною дверь закрой и подмети.
* * *
Совок с метлой стоят в углу.
Намокла под дождём фанера.
Вот ходит голубь по столу
В кафе заброшенного сквера.
Стакан с окурками на дне,
Где истину искать не надо
И где, отчётливо вполне,
Мазок оставила помада.
Что это? Сцена из кино,
С ума сводившего когда-то?
Да нет. Я жду тебя давно
Здесь, где часы без циферблата.
* * *
След ещё не успел и простыть,
А уже покраснела рябина.
Ты не можешь мне сына простить,
Твоего, но не нашего сына.
Рад тебе хоть немного помочь.
И, бывает, почти успокою -
Ты можешь простить мою дочь,
Потому что не наша с тобою. * * *
Ты лету ничего не задолжала.
А я должник. И ты меня прости
За то, что под сосной от карнавала
Осталась только горстка конфетти.
Легко скоропалительное лето
Бросало из любого рукава
Кружочки соблазнительного цвета,
Чтоб у меня кружилась голова.
* * *
Квиты мы или не квиты,
Сердишься всё-таки зря.
В клетке арбузы покрыты
Лёгким снежком октября.
Плачешь, что ты одинока,
И торжествуешь тайком.
Струйка арбузного сока
Розовым стала ледком.
АПРЕЛЬ
Узнай, что снова птичья перепалка,
Когда слепит ручья электросварка,
Когда из-за прижмуренных ресниц
Не видно в солнце утонувших птиц.
Паруются пернатые и звери.
Победа страсти. Баховский хорал.
Где новый дом твой? Там закрыты двери.
А старый дом давно ты потерял.
Глянь на сосну - на лапе там не снег ли?
Последняя седмица. И четверг.
А новую любовь твою отвергли,
А старую любовь ты сам отверг.
ПРОЩАНЬЕ С МАГИСТРАТСКОЙ УЛИЦЕЙ
Тебя в лицо не подстеречь:
Оно тоЮродствует косноязычье -
Скрещённая нуждою речь.
Из стихов о Донбассе 70-х гг.
Пора обратиться к Чумацкому Шляху,
Где солью гружённые плыли возы
И где мой прапрадед, пугаясь грозы,
Крестился, а ветер пузырил рубаху;
К ставкам, где русалки базарно бедрасты,
С хвостами, похожими чем-то на ласты,
Совсем голубые под голой луной;
Да к балке со всеми её тайниками,
Да к тем тополям, что стоят над ставками,
Пропахшие солнцем и пылью степной.
Так вот, мой прапрадед - всему и начало.
Он душу свою просолил в солеварне,
И горькую пил и, попавшись, в остроге
Буянил и песни разбойные пел.
"Мне снится не девушка. Снится темница.
И тенью на песню решётка ложится.
Я весел, когда не пуста моя чарка,
Когда таракан заползает в свекольник.
Я в шахте невольник. В степи я невольник.
И выпивки в долг не даёт мне шинкарка…"
Узнал солевар о хозяйском подвале,
Где было шампанское из-за границы.
И двери взломал - и уже через миг
Текли по рубашке шипучие струи.
"Ох, Господи Боже, грехи наши тяжки,
Но мы обойдёмся и без каталажки.
Достался нам борщик с пампушкой и взвар.
Кондратий Булавин в степи взбунтовался,
А я не сховался, а я отозвался:
Секирой умеет махать солевар!
Погиб он, добравшись до Сальских степей.
Казалось ему перед смертью, что в небо
Летит не дымок от последней затяжки,
Летит от него то ли снег, то ли пепел.
И помер с догадкой: да это же соль
Уходит из тела с душой окаянной.
А дед мой Андрей был великий сапожник.
И что ж? Взбеленился однажды Андрей,
Увидевши панночку Ясю из Лодзи
И то, как крестилась она, католичка,
И книжки Мицкевича ночью читала.
Ходила по комнате в тонкой сорочке
И что-то искала в полунощной строчке.
На дерево влазил красавец Андрей -
В окошко заглядывал, губы кусая.
О, как же прельстительна ножка босая!
Снимай же сорочку свою поскорей!
А днём не стихала Андрея гитара.
И что-то заметила пани Барбара,
Ждала, что заткнётся сосед, протрезвев.
А он принимался за дело сначала.
И пани Барбара сердито сказала:
"Глупота! - И снова: Глупота! Пся крев!"
И жинка Андрея, суровая Анна
Обиды стерпеть уж никак не могла.
Поймала она петуха покрупнее
И стала сапожника бить петухом.
"По-польски лопочешь во сне, кобеляка!
С гитарой сидишь у пропойцы-поляка.
На панночку пялишь глаза: ох да ох…
Скажите, какая же Ясенька цаца!
Всё ножки тебе этой панночки снятся…
Да ты божевольный! Да чтобы ты сдох!"
Он ей не ответил ни взглядом, ни словом.
Ушёл, черноусый и чернобородый.
А вечером он застрелился. И дым
Взлетел над колодками, над инструментом.
Одни тополя догадались тогда,
Что это всё те же кристаллики соли
Уходит из тела с душой окаянной.
(А что же с гитарой Андреевой сталось?
Она по наследству Пантюше досталась.
Пантюша был жулик. Он жил через двор.
Но это, пожалуй, другой разговор…)
Я знал, отчего не жилось моим предкам.
И всё-таки я ликовал, как Том Сойер,
Которому небо открылось в пещере.
Кончалась война. И в отеческий край
Настала пора наконец возвращаться
Из синего плена озёр Борового,
Из плена гранитного царства Синюхи.
Сентябрь сорок третьего солнечным был.
В те дни постоянно я видел во сне
Наш дом, а вернее - луну и руины.
Проснусь - и все мысли о бабушке Анне.
Погибла она перед нашим приездом:
Осколок настиг её возле крылечка
(Бомбили тогда Николаевский мост).
Ведь бабушке дома никак не сиделось.
Всё бегала, бедная, на перекрёсток.
Её закопали без гроба за домом
И бросили в яму проклятый осколок.
Соседи сказали: "Тут рядом болото.
Тут где ни копнёте - одна только соль.
Достанете Марковну, будто живую…"
И я представлял, просыпаясь внезапно,
Как врежется в мокрую землю лопата…
Я всё не умнел. "Ты кусок дурака!"
Я слышал. Но память была коротка.
И я применял королевский гамбит,
И жертвовал пешки, потом и фигуры
В сыром павильончике парка культуры.
И третьеразрядником был я побит.
И всё это - вместо уроков, конечно.
А как я писал сочинения в школе?
Стихами! К тому же трёхстопным хореем…
И ставили мне в дневнике единицу
С позорной пометкой: "Не списывай впредь!"
И это не всё. Длинноногая Люська
Отвергла меня. Был тогда выходной.
А рядышком где-то капуста тушилась.
Но главное - Люська духами душилась,
На брёвнах она загорала со мной.
Гнал ветер и стружки, и шарики пакли.
И Люськины руки лавандою пахли.
Зевнула она. "Ты и вправду шпана…
И пол земляной в вашей хате. И мама
Не любит тебя". "Это что, мелодрама?"
Спросил я. "Дурак!" - закричала она.
Забыть ли, как Люськина мама с портфелем
Ко мне подошла: "А ещё комсомолец.
Отстань от девчонки сейчас же! Ты слышишь?
Картёжник! Прогульщик!" И я ей пропел:
"Мне снится не Люська. Мне снится темница.
И тенью решётка на песню ложится.
Мне снится, как прадеду, полная чарка,
И снится Бермудский ещё треугольник.
Прощайте, мадам. Я же троечник-школьник.
Но я не завою, как ваша овчарка".
Она удалилась. А следом и Люська
Записочкой мне сообщила печально,
Что больше не будет на брёвнах лежать
Со мною, дыша ароматом осоки,
Персидской сирени, смолы и помойки,
Не будет сплетенья неопытных рук.
И я от бессилья у рыбокоптильни
Заплакал, узнав, как слеза солона.
И дул ветерочек с Чумацкого Шляха.
И путь этот млечен, и путь этот вечен.
А я? Ничего я не понял в тот вечер.
Меня признавали в росе лопухи.
Я шёл посреди гималайских отрогов,
Забыв об оценках моих педагогов
И веря по-прежнему только в стихи.
Моя Магистратская улица знала
О брызгах шампанского в недрах подвала:
"Попробовать хочешь? Ну, что же, изволь.
И, как ни вертись, только время наступит -
И в строчках твоих непременно проступит
(Ты понял?) всё та же бахмутская соль".
КОТУ БУБЛИКУ
1
Безразличия маску напяливай.
Так уж я и поверить готов.
До чего ж ты игривый и палевый,
Предводитель персидских котов.
Кто тут Бублик? Кто дырка от бублика?
Я состарюсь - ты станешь резвей.
Без ума вся окрестная публика
От тебя и хозяйки твоей.
2
Баю-баю. Ты ль не юн…
Темнота. Удушье. Смог.
Ты, во-первых, не Баюн.
Во-вторых, ты без сапог.
Нету сказок, Бублик. Лишь
Гарь кругом. Всё чих да чих.
Ты на джинсах сладко спишь.
Понимаешь ли - на чьих?
Пекло пятый день подряд.
А тебе - не всё ль равно,
Что торфяники горят,
Что нельзя открыть окно.
Ты у нас не на цепи.
Ты у нас не краснобай,
Нету сказок, Бублик. Спи.
Спи на джинсах. Баю-бай.
3
Не пугайся. Астероид
Для котов и кошек - тьфу.
Для тебя поэт откроет
Лучшую свою строфу,
Чтоб вовек не отзвучали
Вопли те и нежность та.
И три звёздочки в начале -
Как созвездие Кота.
Нежность - это роль для мима
И расплавленный гранит.
Я клянусь тебе, что мимо
Астероид пролетит…
НОЧЬ В СВЯТОГОРСКЕ
Ну вот, мы с ней впервые в Святогорске.
"Я столько сосен раньше не видала!"
(Её с рожденья окружали шахты.)
"Скажи, а Калка далеко отсюда?"
"Недалеко. У Красного Лимана".
И я спросил, её косы касаясь:
"Ты Кончаковна или Ярославна?"
"Ни та и ни другая. Я зегзица".
"А ты хоть знаешь, что это за птица?"
Мы с нею жили в разных измереньях.
Я уповал на близость этой ночью.
Нам сторож от спортзала дал ключи:
"Спать будете на волейбольной сетке.
Не жарко, да. Так нынче не сезон".
И я от счастья "Чаттанугу-чучу"
Насвистывал. Что хочешь, то и делай!
Она, смеясь, спросила: "Ты откуда?
А может быть, из Солнечной долины?"
"Нет, говорю, из зала ожиданья".
"Из зала ожиданья? Бедный мой.
Меня ты ждал?" "Кого ж ещё, подумай".
А что вчера со мною приключилось?
Я к ней спешил, статью свою закончив
О комсомольцах из колхоза "Путь…"
Чего - не помню. Может, Ильича,
А может, коммунизма. И машина
В колдобине застряла, вся в грязи,
Рычала, вырывалась - и напрасно.
Дождём дорогу развезло. А снег
Уже во всём предчувствовался первый.
Я вылез из кабины и пешком
Потопал на ночь глядя, чтоб не видеть
Разруху эту, заросли бурьяна.
Она из музучилища. Она
Пришла ко мне из "Половецких плясок".
Она на крыльях ветра прилетела.
На крыльях ветра, Боже! Оттого-то
У чернобровой что за косы были.
Ковыльные - по цвету и на ощупь.
Я научился гладить без боязни
Те косы, расплетать их и мириться
С упрёками, что я не музыкален,
Что не могу никак запомнить арий
Ни князя Игоря, ни Кончака.
"Ах, дирижёрша, я шептал смиренно,
Но я же в хор к тебе не набиваюсь".
И я шагал в грязище по колено.
А где-то там, в сияющем окне,
Любой увидеть мог бы дирижёршу,
Девчонку, возомнившую себя
Достойной самого Роберто Бенци.
Я знал, о чём поёт тот дерзкий хор,
О скосырянке, о её фигурке.
Теперь она моя! "Отдай ключи",
Она сказала около спортзала.
"Да что с тобой?" "Давай ключи скорее.
Где почивала здесь Екатерина?
Пойдём искать следы императрицы,
Они, пожалуй, у монастыря.
Потом пойдём на меловые кручи -
И будем петь дуэтом". "Ладно, будем".
И мы пошли, оставив наши вещи
В двух-трёх шагах от волейбольной сетки.
* * *
В разгаре московского лета
Приедет за Вами карета.
Но правда мне не по плечу:
Что Вы самозванка - молчу.
А в том переулке - церквушки.
Блестят позолотой макушки.
Над папертью - вспыхнувший лик.
Я плачу. И грех мой велик.
Войдёте Вы с дочкой Марьяной
В карету с улыбкою странной,
Как будто оставите Вы
Кому-то Москву без Москвы.
И вмиг облетит для кого-то
С макушек церквей позолота.
Да вот уже сел мужичок
На бархатный свой облучок.
"Ах, барин, словечки - убоги.
А верю я только в дороги,
Где ветер, да промельк берёз,
Да ямы, да кнут, да овёс".
* * *
Ну, хватит! Не правда ли, жалки
Любые другие слова…
Закончены все перепалки,
Сгорели сырые дрова.
Вот молния ринулась в Каму -
И снова наплыв темноты.
Я тоже, как молния, кану,
Чтоб даже не слышала ты
* * *
Я себе никогда не прощу
Этот обморок, эту попытку!
Будто вновь отворю я калитку
И беседку в саду разыщу.
Разве могут меня оправдать
Эти струны чонгури в духане,
Эти пальцы, что пахли духами
И чужую листали тетрадь?
* * *
Вода у берега дрожала,
Как будто губы от обиды.
И были к берегу прибиты
Щепа и ветка краснотала.
А лебеди на миг вернулись
И, шеи выгнув, обернулись.
"Ну вспомни, как я их любила.
Однажды мы с тобой проснулись
От этих крыльев. Нас знобило…"
Не так всё было. Ты забыла.
Они ведь нас не помирили.
Вот потому и закричали.
Взметнулись. Ангелы печали.
С водою крылья говорили.
С водою крылья говорили.
VI
ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ
ГИТАРИСТ ПАНТЕЛЕЙ
Кучерявый Пантелей.
В пьяном воздухе - елей.
Это бабушкин мучитель,
Странных звуков сочинитель.
"Да не жадничай, налей!"
Всё он думал о своём.
"Анна Марковна, споём?"
Был он бабушки моложе.
"Хочешь выпить? Ну так что же?
Можно, ежели вдвоём".
Как возьмёт минорный лад,
Рыщут пальцы наугад,
Льётся что-то вроде блюза.
"Ах ты, муза моя, муза,
Ах ты, бабка двух внучат".
Брал меня в кино с собой.
Там играл под фильм немой,
Клал синкопы в ритме вальса
И экрану отдавался
Каждой пьяною струной.
Люди плакали вокруг.
Трогал душу этот звук.
Мне терзал он тоже душу.
Думал, глядя на Пантюшу:
Что как протрезвеет вдруг?
ДЖАНГО РЕЙНХАРДТ
Пропадал я в таборе, Граппелли.
Там цыгане под гитару пели,
Сидя у палаток и телег.
Ты, Граппелли, мне дороже брата.
А трава была голубовата -
Под луной казалось: это снег.
И Нагин плечом ко мне прижалась -
Зря ли к этой ночке наряжалась,
Да и я был, Стефан, что твой граф.
И про то, как пели мы напару
Без гитары или под гитару,
Нёс молву цыганский телеграф.
* * *
Уходили на фронт музыканты.
Был ноябрь сорок первого года.
А в тридцатых гремели фокстроты
В санаториях Славяногорска.
И хотелось пижону с корнетом
Подражать лупоглазому Сачмо.
Но теперь новобранцы играли
На перроне "Прощанье славянки".
Эта музыка вдоль эшелона
Проносилась настырной позёмкой.
А потом командир в полушубке
Заскрипел на морозе ремнями.
Что-то крикнул. Наверно: "Отставить!"
И пошёл к головному вагону.
И остались лежать на перроне
И кларнет, и валторна, и флейта.
Только нравилось жить корнетисту,
Целоваться и в озере плавать.
Он вернулся, нарушив команду,
За ещё не остывшей трубою.
И вскочил на ходу на подножку,
Ощутив нараставшую скорость,
И вонзил в мировое пространсто
Юной жизни бессмертные звуки.
КАССЕТА ИЗ ШЕСТИДЕСЯТЫХ
Опять серебряные змеи
Через сугробы поползли…
Афанасий Фет
А как добраться нам до Чаттануги?
А так - не объезжать вот этой вьюги.
Несётся мимо древнего погоста
Алёшкин свинг - и скорость девяносто!
Привет, гаишник, вот права, техпаспорт.
Прокалывай талон - а мы рванули!
Теперь прощай, маши вослед нам палкой,
Но мы уже, служивый, не вернёмся
На той зелёной "Волге". Только дырка
Осталась в белоснежном том пространстве.
Осталась только дырка. Только дырка.
…Кто б мог тогда подумать, что кассета -
Как перекати-поле в строчке Фета.
ФЛЕЙТА ФЕДУТЫ
Юрию Грунину, зеку джезказканского
Степлага, находившегося в пустыне
Бетпак-Дала (Голодная Степь), посвящаю
Мне б выпивку и добрую подружку…
Ария птицелова Папапгено из
"Волшебной флейты" Моцарта
Сергей Петрович, знайте же: в ту ночь
Волшебной флейте противостояли
Взбесившиеся чёрные рояли,
Чью музыку понять могли едва ли
Рабы, жрецы, придворные и проч.,
Которым чудилось: "Эй, вы, со сцены прочь!
И что вам жизнь какого-то Федуты?
Все семьдесят свечей его задуты.
Он - сломанная дудочка точь-в-точь".
И в птичьем опереньи Папагено
Пал перед вихрем этих звуков ниц.
Царица Ночи зашипела: "Цыц!"
И он - ползком, ползком. И спины жриц
Прикрыли шутника. И он мгновенно
В испуге выпустил на волю птиц.
"Герр Моцарт, неужели это тот?"
Да, тот. Флейтист из Бронниц. Где Памина?
И мальчики её проходят мимо
В тени чугунных лагерных ворот.
Оглохли, что ли? Оторопь берёт.
И фея плачет (эта роль - для мима).
А вот рожок - и где-то, вдалеке:
Река, окоп, и вскрик предсмертный чей-то,
И взрывы бомб, и "мессеров" пике,
И две ракеты - в небе и в реке,
И немцы - в двух шагах, и боль, и флейта
С несыгранной сонатой в вещмешке…
Чем был Степлаг? Клубком буранных зим.
Тут каждый день прощались все со всеми.
Копали медь - и в язвах, и в экземе.
Ах, если б не Гоглидзе Серафим!..
Он говорил: "Ко мне поедем, в Греми".
На нарах вы "Одойю" пели с ним,
Где камнепаду вторил водопад:
"На лучшее надейтесь. Слёз не лейте".
По-русски, по-грузински - невпопад.
Один - комроты, а другой - комбат.
Вы Серафиму Моцарта на флейте
Играли - чаще что-то из сонат.
Отмотан вами был почти червонец -
Степлагских девять с половиной лет.
"Куда, Серго, ты будешь брать билет?"
"Куда ж ещё: я - за тобой вослед.
Хоть и свобода - не видать мне Бронниц:
Для зека ходу в Подмосковье нет".
…И жизнь прошла?! Не может быть! И вот
Пускаюсь вместе с вами в ту дорогу,
А если поторжественней - в тот путь,
Где нужно уцелеть хоть как-нибудь
(И гибнуть ни к чему: всё - слава Богу!)
И, набирая скорость понемногу,
С горы помчаться - к вашему порогу,
Не доезжая Греми, повернуть
И задохнуться, будто бы впервые
Всё это видишь. Ястребом кружи.
Внизу - Кварели. Небо. Виражи.
Ров перед древней крепостью. Стрижи
(Известны им все тропы боевые).
Бойницы. Стены. Башен этажи,
Где каждая ступенька бездыханна.
Кустарник ржавый с профилем бархана.
И вдруг духан на солнце витражи
Своих дверей направил. У духана
Ждут столики гостей. Лишь прикажи.
"Москву открыли мне… За мой отъезд!
Вначале - чачу, после - "саперави".
За то, что в Джезказгане запирали
Зимой в подвале! За ХХ съезд!
И впрямь: не выдаст Бог - свинья не съест.
Давай Гоглидзе мы с тобой помянем.
На Ушбе сгинул друг мой дорогой.
Стал Серафим вершиной, стал пургой,
И небосводом стал, и утром ранним.
Не чокаемся: случай не такой.
Добраться поскорее бы до Бронниц.
Мне к матушке сходить бы - на погост.
Вот где гудит метель в проломах звонниц…
Я всюду слышу лагерных бессонниц
Колокола… Ну, как тебе мой тост?
Но, впрочем, тост не кончен. Виноват.
За "Hande hoch! ". За фрица. За присягу.
За тот подкоп. За то, что дали тягу.
Двенадцать - прямо в рай. Один - в штрафбат.
В сорок четвёртом - на зубок Степлагу
(Причём, учти: с медалью "За отвагу").
По первой, что ли? Вздрогнули! Виват!
А за гуманность 58-й?
А за вагоны те? За те решётки?
За то, что с флейтой ехал я живой?
Я улыбнулся, может быть, впервой:
Не отобрал волшебницу конвой.
"Сыграй", - сказали, дали рюмку водки.
Домой приеду - к Пущину пойду
И на могилу медную руду
Я положу - привет из Джезказгана.
Судьба у нас обоих окаянна.
И вот что вижу я на дне стакана:
Писать я стал в сороковом году
О нём кантату. Тут война нежданно.
Раненье, плен, побег - всё на беду…"
Сергей Петрович, Пасха ведь была,
О чём напомнил монастырь Некреси
И не забыли города и веси
У нас в России. И колокола
Бессонниц раскалились добела.
И услыхал я на "Христос воскресе!" -
"Воистину воскресе". Вот дела -
Не прикурили вы, ломали спички…
"Я дома буду через два-три дня.
До Кутаиси ходят электрички.
А там… Вот только соберу вещички.
Ну да, ты прав: без флейты нет меня,
И без меня нет флейты-фронтовички.
Что до родни… Какая тут родня…
Племянник разве что - Егор Федута.
Торопит: "Обещаю рандеву, -
Для вас чувиху подыскал я тута,
Довольно симпатичную вдову.
У ней "москвич" и хата. В общем, круто".
Плут Папагено - так я почему-то
Уже пятнадцать лет его зову.."
И вновь мы мчимся дальше. А потом
Почти вбегаем в холостяцкий дом.
На шахматной доске - вразброс фигуры,
Не убранные в ящик. Всё - вверх дном.
Журналы. Книги. Письма. Партитуры.
И ваш портрет - по-моему, с натуры.
И ваша флейта - в свете золотом
За горы заходящего светила.
Подносите к губам её… Но вдруг
Вой, ритуальной колесницы звук -
Её Царица Ночи сколотила.
Никак не успокоится, скотина!
Со звоном блюдо падает из рук
Хозяйки вашей (кажется, Медеи) -
Старушка хачапури принесла.
В апреле, двадцать пятого числа,
Как никогда, была Царица зла.
Где музыка? Что ж это, в самом деле?
И я без флейты тоже одинок.
Бегут три Дамы Ночи со всех ног,
Звонят: "Naturlich , Frau ! Несомненно!"
Сон разорвался - в пять утра звонок:
"Петрович помер. - Голос Папагено,
Егора то есть. - Закажу венок".
…Я жил бок о бок десять дней с Егором,
Свистели птицы Моцарта в котором.
Мела в квартире новая метла.
И что поездка эта мне дала?
Все, кроме ведьмы, дружно пели хором -
Скорее, не с печалью, а с укором.
Казалось: за Архангельским собором -
Гряда холмов, песок, Бетпак-Дала.
Сергей Петрович, мною был пропущен
Последний акт, аккорд последний. Но
Листал бумаги ваши. И в окно
Глядел на то, что было вам давно
Знакомо. И Иван Иваныч Пущин
В кантате жил - и звался там Жано.
Чтоб заглушить те чёрные рояли,
Чтобы заткнуть Царице Ночи пасть,
Он говорил, что было всё не в масть,
Что те, кто нахлебался крови всласть,
У вас любовь и музыку украли.
А что они умеют? Только красть.
Соседи на поминках вас винили:
"Всё "вы" да "вы", а нет чтобы на "ты",
Не знал Жюли Леско и Никиты…"
А принц Тамино собирал цветы
Памине на апрелевском виниле,
Запиленном почти до хрипоты.
И на столе - наброски, оркестровки.
Инвенция с названьем "Западня" -
Без эпилога. Всюду - заготовки.
Тоска тоской. Да в Бронницах Петровки
Гуляли широко, без остановки,
Гудя, опустошая поллитровки.
И объяснил мужик возле столовки:
"Пой, соловей, - но до Петрова дня!"
А Папагено флейту взял на мушку.
Совал мне и "Пентхауз", и "Плейбой"
И мерил джинсы новые - ковбой.
"Сгоняем в рощу: крестят там кукушку
Чувихи наши. Опрокинь чекушку.
Петрович был бы - взяли бы с собой.
Ну, блин, ты чё? Тебе чекушки мало?
В помин давай. Тут рядом есть вдова…
У ней грибочки. А какое сало!
Ведь праздник, ведь живём мы однова…"
Прошли Петровки - по листу опало.
Пройдёт Илья - опало сразу два.
Конечно, два. Дуэт виолончели
И флейты. Ветерок подул с утра.
"Ах, бабоньки, и нам в загул пора!
Мыслишка-то у дьявола хитра:
Поймает в сеть, посадит на качели
Апостолов - и Павла, и Петра.
Дворянской крови нужен дух парилки -
А нам тем более, утробе всей".
"Егор, где флейта?" - "Видишь: вон бутылки.
Ты лучше выпей и печаль рассей.
Петрович помер - так оставь придирки.
Махнулись мы с хохлушкой из Ахтырки.
Лиса говеет - запирай гусей".
Что это? Визг степлагской лесопилки,
И автоматы целятся в затылки…
Расея, нет нигде таких Расей.
…Я ехал сквозь пустыню и Ткварели,
Сквозь сказку Моцарта. Я ехал сквозь
Виолончели, флейты и свирели
И сквозь незатихающие дрели.
И думал: "Как же поздно мы созрели!
Как нам достичь себя не удалось!"
АРМСТРОНГ
Подносит он к губам трубу.
Сверкает запонка в манжете.
Предугадав свою судьбу,
Не так уж просто жить на свете.
И всё накалено вокруг.
Свистят фанаты оголтело.
Негромкий голос. Хриплый звук.
И что? Вот в этом-то и дело?
А рядом саксофона медь -
Соперница, но и подмога.
А ты? И ты умеешь петь?
Умеешь петь? Побойся Бога.
МУЗЫКАЛЬНЫЙ СНАЙПЕР
А я.., конечно, не замедлил
рассказать о своей встрече вам; такая
уж у меня повадка - рассказывать.
Г.Х. Андерсен
Могла ли встреча быть тогда иною?
Цветной камзол. Добрейшее лицо.
Потешный колпачок. А за спиною -
Забавное такое ружьецо.
По поводу ружья добавить надо:
Подобного не видел белый свет -
Без мушки, без затвора, без приклада.
Почти гитара и почти кларнет.
Был чудный день тогда, даю вам слово.
Как будто вымер городской квартал.
И, словно правнук платья золотого,
Осенний лист под ветром трепетал.
И музыка возникла. "Это ваша?"
"Моя", - ответил он. И снял очки.
О Боже, у него из патронташа
Выскальзывали нотные значки.
"В обличье вашем что-то мне знакомо…" -
Сказал я вдруг. И пожалел потом.
"И вы туда же… Приняли за гнома.
Я музыкальный снайпер, а не гном.
Вот у меня бекары и бемоли.
В патронах - и симфонии, и джаз.
А гномы ваши… музыкальны, что ли?
Да вот они… среди кустов как раз…"
Он помнил дилижансы и кареты
И постовые будки на углах,
Любил, когда играли менуэты
Придворные оркестры на балах.
Когда он юным был, то из засады
Следил за одинокими людьми,
Рыдавшими от горя и досады,
Не знавшими ни ласки, ни любви.
А нужно было - так не ждал он слишком
И понимал, что наступает срок.
Он хорошо владел своим ружьишком -
И нажимал решительно курок.
И он стрелял! И праздничные ноты
Летели из ствола - и наповал
Разили неудачи и заботы.
И миг благословенный наступал.
И люди тотчас песни запевали,
Кружились в плясках до того лихих,
Что обнимались все и забывали
О бедах и о горестях своих.
И он мечтал, чтобы они уснули
Довольными собой в конце концов.
Спешил к себе. И отливал он пули
Из чистых соловьиных голосов.
Все выстрелы его бывали метки,
Попали в Книгу Гиннеса они.
И сращивались срезанные ветки
И в кипарисы превращались пни.
Вставал мой друг обычно спозаранку,
Глядел на солнце в вычищенный ствол
И, чтоб послушать мудрую шарманку,
На рынок или же на площадь шёл.
С тех пор он столько износил ботинок!
Давно он блюда острые не ест.
Там, где когда-то был крестьянский рынок,
Теперь Шестой Профессорский Проезд.
"Старею, - говорит, - но не тоскую.
Ты в этом убедиться сам изволь.
Вчера ружьишко отдал в мастерскую:
Как видно, заедает ля-бемоль.
Всё дорожает - вот в чём, брат, обида.
А что до жизни - дешевеет, брат.
Мы первые по части суицида.
Я, может, тоже в чём-то виноват".
ПРОЩАЙ, ПЕЧАЛЬНАЯ ТРУБА
Звоню. "Такой здесь не живёт".
"Давно?" "Да уж который год.
Покинул, стало быть, Ордынку.
Снесла я в мусоропровод
Его пластинки, прорву нот
И эту… как её… сурдинку.
Звонила бывшая жена.
Видать, мадам была пьяна.
Маришка, что ли?" "Да, Маришка".
"А был ведь кандидат наук.
Ему же вечно снился звук.
Ну, в общем, жалкий трубачишка".
Листаю старый "Даун бит":
"Он пьёт. Небрит. Почти забыт.
Майлс Дэвис говорит: "Он гений!""
Хрущобы. Мокрый снег. Судьба.
Прощай, печальная труба.
По мне, так нету вдохновенней.
В дни "перестройки" был слушок:
Бутылки собирал в мешок
Чувак, с тобою схожий вроде,
Затем (невыпивший причём)
С подслеповатым скрипачом
Играл в подземном переходе.
МИСТЕР "МАТОВЫЙ ЗВУК"
…Но Майлсу Дэйвису сказали,
Что вряд ли кто сидящий в зале
Поймёт трубы его полёт.
И он, рассерженный и хмурый,
Всю ночь сидит над партитурой:
Ошибку ищет. Не найдёт!
* * *
Михаилу Мильману
Вот квинтет играет Баха в синагоге.
Это - страсти, это - голос твой, Матфей.
Музыкант от Бога думает о Боге,
Если забывает об игре своей.
Воздух становился музыкою Баха
Там, где обрывался выстрелами смех,
Там, где, обернувшись горсточкою праха,
Медленно мы падали, Господи, на снег.
Что с виолончелью? Заблудилась где-то.
Звук безумно близок, ибо так далёк,
Будто лютый холод и руины гетто,
Будто уплывающий в небеса дымок.
* * *
В гостинице, мой друг, не то что старой,
Изглоданною временем, не пой,
Что я прощаюсь с джазовой гитарой,
Как ты простился с джазовой трубой.
Идёт гармошка прямиком к затону.
За ней "КАМАЗ" поехал к гаражу.
Я этих струн теперь уже не трону.
Нарочно синий бантик завяжу.
Пойдём-ка за гармошкою вдогонку.
Но ты не хочешь. Ты у нас такой.
А музыка под силу - цыганёнку,
Пусть даже с изувеченной рукой.
Ты пой, что я лопух, что я бездарен.
Я перекати-поле. Я никто.
И ты не Брубек и, однако, барин.
И подаёшь ты Брубеку пальто.
И станет видно кларнетисту Пете,
Что ты уж не порхаешь налегке.
Ты исчезаешь, будто звук в кларнете,
В последнем "Новогоднем огоньке".
Да, я никто. Вот и прощай, дружище.
Пусть дюковский уходит караван.
…Гостинный двор в Кобыльем Городище.
Уже давно погас телеэкран.
* * *
Ледоход - и траурная медь!
Приторный и чёрный ветер дунул…
"Кончилась зима - и умереть…
Господи, помилуй!" - ты подумал.
Пели птицы мощно и взахлёб.
Лаяли щенята в чьих-то сенцах.
Рядом проносили красный гроб,
Чтобы опустить на полотенцах.
Шапку снял и пот отёр со лба.
Подсмотрел, что было полвторого.
И ещё отметил, что труба
В общем-то к печали не готова.
VII
СКВОРЧИНАЯ БАЛКА
* * *
Мы живём, под собою не чуя страны.
Осип Мандельштам
Итак, графа: особые приметы.
Оставим без вниманья этот взгляд.
Так смотрят перед гибелью поэты,
Ничтожные, когда они раздеты.
…С горбинкой нос, а также лысоват.
Грудь и живот, напротив, волосаты.
Вот отпечаток пальца. Вот цитаты.
И что смеялся? Постарел. И нищ.
Здесь нет ещё одной - последней - даты.
Но всюду здесь сиянье голенищ.
ЦАРИЦЫНСКИЙ ПАРК
Снегом осёдланы арки.
Церковь. Руины. Века.
Кажутся лыжные палки
Шуткой нелепейшей в парке.
Мойры (а попросту Парки)
Пялятся исподтишка.
Мы не боимся сравнений.
Это ли не благодать!
Незавершённости гений,
Может быть, всех совершенней.
Ждите развязки весенней,
Если вам хочется ждать.
* * *
Там дырка в черепе зияла на просвет,
Тянулся к солнцу черенок лопаты…
И что мне надо? Я обут-одет.
Вокруг все вербы почками чреваты.
Был март, и тайну выдал мне овраг
За мельницей Омельки Кривоглаза.
Но вы не ждите: я себе - не враг,
Я удержусь сегодня от рассказа.
Уж лучше ты, Поэт, меня убей,
С твоей строкою белый свет покину.
Ты знал прекрасно, старый воробей,
Где и когда я клюну на мякину.
Той мельницы давно на свете нет,
Наполовину жернова в болоте.
Нет и в помине золотых монет.
А что, без них меня вы не убьёте?
* * *
Горячкою белою стала пурга.
Исправно платил я - да втридорога.
Платил я - и всё же за что и кому,
И раньше не знал и сейчас не пойму.
Услышу ли колокол - это по мне.
Боль старая - новая дырка в ремне.
* * *
Кто на себя вину мою возьмёт?
Помолится ли кто о пустобрёхе,
Который твёрдо знал, что бродит мёд
За грудой кирпича в чертополохе?
И что в остатке? Горсточка. Чуток.
Заплакать бы пурге, а та хохочет,
И мраморный отбойный молоток
На кладбище Мушкетовском грохочет.
Не жди. Февраль на оттепели скуп.
Не нужно больше врать - себе хотя бы.
Кровь человечью слизывают с губ
В степи азовской каменные бабы.
* * *
Жил на выселках я у шестого ставка,
Где построил совхоз лесопилку.
Говорила хозяйка: "Жарища яка!
Помяну я, прости меня Бог, Василька…"
И в стакан наливала горилку.
Террикон загорался: то солнечный диск
Падал прямо в Скворчиную Балку.
Наконец прекращался за окнами визг.
Говорила хозяйка: "Напиться бы вдрызг
Да взорвать эту вдовью хибарку!..
По ночам мне кричат мои тридцать годков
Про отбойный его молоточек.
Сколько в шахте засыпало тех Васильков!
Нарожала б ему двух чернявых сынков,
А за ними - двух беленьких дочек…
Да не прячь от меня ты сегодня ножи.
Хватит в книжках мудрёных копаться.
Ведь глаза твои, хлопчик, ну чисто стрижи.
Так пойдём на ставок. Сарафан сторожи.
До утра буду голой купаться!"
* * *
Помолись о посёлке, давно оскуделом -
Ну хотя бы за то, что зовётся "Лесной",
Что за ним всё - под вереском, под можжевелом
И, конечно же, под богомольной сосной.
Здесь у нас начинались венчальные игры,
Только здесь мы прозрели, слепцы и глупцы.
Шла весна. И внизу прошлогодние иглы
Были мягче ковра под порошей пыльцы.
Не забудь и про солнце, про молнии-вспышки:
Вот что делал в кустах нерастаявший снег!
Нам сулили прибыток зелёные шишки,
За смолистым побегом - смолистый побег.
Вдруг ты вспомнила: ключ-то от дома - в замочке.
"Разругают - да что уж: теперь всё равно…"
Возвращались в посёлок мы поодиночке.
И встречало геранью любое окно.
* * *
В Донце вода заржавлена
В начале ноября.
Верните мне Державина,
Музыку Снигиря.
Ведь Вы-то не заплакали.
Вам было всё равно.
Там дедовы каракули.
Он жил давным-давно.
Он был крутого норова.
Безумствовал, любил.
Чтил сызмальства Суворова,
Но сам себя убил.
Кругом болота чёртовы.
У Вас в Москву билет.
В той книжице подчёркнуты
Три слова - разве нет?
Тогда он думал: все равны.
Был, видно, одинок.
И он, как громы северны,
Заснул у чьих-то ног.
ТРОФЕЙНЫЕ ФИЛЬМЫ
Как богато мы, нищие, жили!
Ты почти что босой - всё равно!
Для тебя - Тито Гобби и Джильи.
Это юность. И это кино.
Ведь для умного и для тупицы
Был тогда одинаковый шанс,
Если, кроме "Индийской гробницы",
Демонстрировали "Дилижанс".
И трубач по фамилии Грегер
Нам играл в подворотне рэгтайм.
А потом симпатичный бутлегер
Погибал ради тайны из тайн.
Славлю щедрости кинопроката
За влюблённую насмерть трубу,
За судьбу фантазёра-солдата
С верой в женщин и с пулей во лбу.
НЕНАПИСАННАЯ ПОЭМА
(Из письма к матери)
Всё напоследок я тебе открою.
Я выучил твой сборник наизусть,
Больших Вязём и Спас-Уборов грусть.
Вот с этим-то я перед медсестрою
Сидел в палатке под Керим-горою.
Сказал: "Уже отбой". И слышу: "Пусть".
В палатке голубела ткань халата,
Просвеченная молнией насквозь.
А медсестра: "Ахматова, небось?
И ты ведь пишешь - говорят ребята…"
"Пишу. А что ж. Вот ты и виновата…"
Гроза в горах пусть будет как цитата,
Чтоб это всё поэзией звалось.
А вот в колонне еду из Моздока
В Аргун - и глупо улыбаюсь вдруг:
Твои стихи волнуют шоферюг.
Им жалко тех, кто плачет одиноко.
А капитан - так тот припомнил Блока:
Мол, в "Снежной маске" тоже много вьюг.
Навстречу предрассветному туману
Веду свою машину среди скал.
"Всю жизнь такую женщину искал", -
Он говорит. Вздыхает. Врать не стану.
Я подарил твой сборник капитану.
А он в ответ - из Кубачей кинжал.
А ночь ведёт меня домой, к собору.
И улицы мне снятся. И они
Не любят света, прячутся в тени,
И что ни дом - к забору бы, к забору,
Не верящие даже светофору…
Ты мне о них поэму сочини.
Теперь не сыщешь чеховского дома.
Вот вроде бы найдёшь - да нет, не тот.
Сюда лечиться местный шёл народ.
Табличка медная. Часы приёма…
Теперь и мне печаль твоя знакома
И жить, как жил я раньше, не даёт.
В ущелье я сверну сейчас, направо.
Я - далеко, а ты - невдалеке.
Я не останусь жить в твоей строке:
Она, как признаёшься ты, лукава,
И промолчит не зря игумен Савва,
С тобой столкнувшись в древнем Городке.
Когда-то протекала там Разводня.
Платили мыт поляки, латыши.
И что осталось? Снег да камыши.
Поэтому прошу тебя сегодня:
Пожалуйста, поэму напиши.
Пиши и знай, что мне не будет больно,
Что свяжутся в единый узелок
И те кусты, где ваххабит залёг,
И монастырский скит. И ты невольно
Почувствуешь, что строчка богомольна.
А для чего нам вечности залог?
Ты мой пакет получишь очень скоро.
Я сам строчу до утренней зари,
Слова - как на черкесске газыри.
Не сыщешь в них ни жалоб, ни укора.
Уж так ведётся: не разрушишь хора -
Какой угодно голос убери.
А медсестра: "Уймись ты, Бога ради.
Написанное слово - как магнит.
Вот валерьянка. Тоже мне пиит…"
А горы впереди, и горы сзади.
И если что - у медсестры тетради.
Я думаю: она их сохранит.
Прочти и улыбнись. Я - чижик-пыжик.
Сын поэтессы с улицы Лесной,
Не сочинивший строчки ни одной
Как следует. Но я ведь не для книжек
И даже не для книжки записной.
Хватило, может, твоего примера?
И под гитару шли мои слова.
И разве рота не была права,
Когда рождала своего Гомера?
И, как трава, проклёвывалась вера -
По-мартовски ещё, едва-едва.
Наивное подобье талисмана
И с пулей полудетский уговор…
Мой капитан в бою убит в упор.
Жаль, не слыхал я мненье капитана
О тех стишках. Он был из Магадана,
Где Козиным гордятся до сих пор.
Он говорил, что парень я - не промах,
"Возмездье" дал и "Соловьиный сад".
Клянусь тебе, я был бы очень рад,
Когда б он побывал в Больших Вязёмах,
На даче нашей, посреди черёмух.
О нём уже почти не говорят.
Мы встали у массивчика лесного.
Там бронетранспортёр - один скелет.
Полковник наш мне посмотрел вослед.
Должны мы в Грозный въехать в полвосьмого.
А в тех тетрадках о тебе - ни слова.
Ну как же так: ни полсловечка нет.
Я шлю тебе любительское фото.
Прости, что не по-зимнему одет.
Январь в горах. Мне ровно двадцать лет.
И загибаться вовсе неохота.
И солнце у тебя в стекле киота.
Великий пост. Меня вот только нет.
Твоя поэма - в Спас-Уборах где-то.
Чуть-чуть ещё - и загалдят грачи.
Достань машинку и вовсю строчи.
Но не дождаться, видно, мне ответа,
Зачем с обрыва сброшена карета,
Зачем усадьбу подожгли ткачи.
Ты побежишь к Царицынским палатам.
Со словом - ты, а у меня - словцо.
Прости, что в материнское лицо
Смеюсь, вонзаясь взглядом виноватым.
…Навстречу двум необратимым датам
Дьячок с кадилом выйдет на крыльцо.
* * *
Добро бы дом был, чтоб идти домой.
Свой, собственный. С сонатой Паганини.
Но стольный град помилован зимой:
И снегопад, и новый год отныне.
Шагни в метель, подарок получи -
Строфу вторую к зимнему сонету.
Прописка есть, есть от дверей ключи -
Вот только сорок лет как дома нету.
А во дворе метёлки нарасхват.
Бадья у входа - будто из-под теста.
Ты в дом войдёшь, оставив снегопад
У тускло освещённого подъезда.
* * *
Сестра моя - жизнь…
Борис Пастернак
Год високосный мартом окупается,
Но трудно жизни быть моей сестрой.
Вчерашний день в анапесте копается,
Утратив дактилический настрой.
Не утихает дрель с утра до вечера,
Уж трещины пошли по потолку.
А я - шарманщик старый. Я доверчиво
Не воду в ступе, так словцо толку.
Вот если б дактиль взвился плетью хлёсткою.
Чтоб с сосен - снег, чтобы крошился лёд…
А дрель грохочет. И опять извёсткою
Забрызган лифт и лестничный пролёт.
УБИЙСТВО НА ПОСТОЯЛОМ ДВОРЕ
(Преклоненье перед Антониони)
Нет, след не должен быть глубок.
Достаточно земле быть хрупкой.
И пусть не ходит голубок
У коновязи за голубкой.
И во дворе пусть - никого.
Жара пусть будет до предела.
Ни звука чтоб. Ни одного.
Чтоб птица вдруг не пролетела.
Чтоб к горлу мой язык присох.
Чтоб сдался двор на милость зною.
И чтобы ослепил песок
Глаза безумной белизною.
Закрытым будет пусть окно.
Что жизнь? Да ей цена - песета.
Вот так, синьор. Всё решено.
А может, с вами было это?
* * *
Александру Ревичу
Вот почему так рано мы проснулись:
На новостройке рухнули леса.
Окно откроем - донесутся с улиц
Разбуженных соседей голоса.
В ушах, однако, перезвон сосулек.
И небосвод по-мартовски высок.
А что до этих падающих люлек,
Лежащих в снежном месиве досок…
Так плачет брат мой, плачет о Манеже
И лишь два слова шепчет: "Ты представь…"
Всё те же сны? Нет, сны теперь не те же.
У нас теперь одна и та же явь.
ВОСКРЕСЕНЬЕ ВЕРБНОЕ
Воскресенье вербное.
Снег сошёл с могил.
Знаю слово верное
И не разлюбил.
Головокружение.
Потеплело вдруг.
Храм Преображения.
Венчики вокруг.
Дело перед Пасхою.
Там - отец. Там - брат.
Пахнет свежей краскою
Множество оград.
Чья-то жизнь короткая
Обожжёт огнём.
Вот и стопка с водкою
И стакан с вином.
На скамье истерзанной -
Свежий огурец,
Чёрный хлеб нарезанный,
Солнце и скворец.
* * *
И увидел коршун под собою
Всех зверей, идущих к водопою.
На заре он прилетел сюда:
Снилась ночью коршуну вода.
Снилось, что понёсся он вдогонку
Видящему тень его мышонку -
И подумал вдруг на высоте:
"Крылья у меня уже не те…"
А ведь был он вечно тенью злою.
Но в годах сравнялся со скалою.
Перья поседевшие в гнезде.
Что-то тянет коршуна к воде.
Сел над речкой, на краю обрыва.
А косуля до чего пуглива!
И кричит злорадно вороньё,
Что ему совсем не до неё…
* * *
Я увидел спозаранок
Незнакомый полустанок.
Три минуты остановка. И перронная возня.
Здесь не девушки - девчата.
И ведь это жизнь не чья-то,
А моя и для меня.
Так врываются нежданно
Полусвет и полумрак.
"Где ещё два чемодана?
Где записка для Ивана?
Ну, пора. Прощай, казак!"
Так привычно и так странно.
Спешка. Запахи. Сквозняк.
Вот "КамАЗ", а вот телега.
"Глянь: казак мой пьян в дугу!"
Здесь почти что нету снега,
А ведь скоро и Онега,
Где обычно всё в снегу.
Я увидел спозаранок,
Как деревьям нужен свет,
Как скребут полозья санок
По земле, где снега нет.
* * *
У речушки, у холма, у стога,
У последней на земле версты
Я благодарю сегодня Бога
За преодоленье немоты.
И за тайну древнего кургана,
И за то, что вспенена Угра,
И за Откровенье Иоанна,
И за два послания Петра.
РУБЧАТЫЙ СЛЕД
Внуку Дмитрию
Посоветовать, что ли, ребёнку:
Отложи, моё солнышко, мяч,
Запиши своё детство на плёнку
И кассету волшебную спрячь.
Видно, верю и я не на шутку
Колдовству святогорских синиц
Так, как верят, найдя незабудку
В книге между линялых страниц.
Ведь однажды такая накатит
По твоей голубятне тоска,
Что и книги старинной не хватит
И её голубого цветка.
И попросишь у жизни впервые
Хоть на миг возвратить наконец
Степь, и кручи ещё меловые,
И ещё обмелевший Донец,
И шуршание велосипеда,
И тропинку, и рубчатый след,
И мультфильмы в коттедже соседа,
И догадку: а смерти-то нет!
Будет старою эта кассета.
И в динамиках новых времён
Ты услышишь и сосен, и лета
Голоса: "Это он! Это он!"
А ещё ты услышишь, мой мальчик,
В тишине високосный зенит,
И оранжевый теннисный мячик
На асфальте опять зазвенит.
На асфальте, где были хвоинки,
Постепенно терявшие цвет.
И отыщешь на той же тропинке
Нестираемый рубчатый след.
НОЧНОЙ СНЕГ
Благословляя мой ночлег,
И всё же нелюдим,
Шептал он: "Я почти не снег.
Мне нужен псевдоним".
Он шёл, как будто бы винясь
За тайные грехи,
Как будто бы великий князь,
Слагающий стихи.
Шёл снег и был всего белей.
И видел я в окно
Его - принявшим вид церквей,
Которых нет давно.
Он был не снег. Он был снежок.
И, хоть сереброкрыл,
Он красоту вернуть не мог,
Зато уродство скрыл.
БАКЕНЩИК
В гимнастёрке выцветшей, в пилотке
По Донцу скользил в кромешной тьме
На своей видавшей виды лодке
С лампою шахтёрской на корме.
Были звёзды скрыты облаками.
И, спиною ощутив озноб,
Брал он вёсла влажными руками,
Но теченью верил - и не грёб.
* * *
Я ещё воспою Покрова на Нерли
За молитву "Печали мои утоли".
Я ещё Покрова на Нерли воспою
За Твой отзыв, мой Спасе, и правду Твою.
Я ещё воспою на Нерли Покрова
За права на нетленные эти слова.
* * *
Вот и мороз меня обжёг.
И в змейку свившийся снежок,
И хрупкий лист позавчерашний…
А что со мною будет впредь
И научусь ли вдаль смотреть
Хоть чуть умней, хоть чуть бесстрашней?
* * *
Моей картине не вместиться в раме.
Зачем она, когда есть фрески в храме?
И этот храм - в пещере, за скалою.
А у меня - лишь ветер под полою.
На валуне, я помню, - капли воска,
И рядом - сено, будто с воза Босха.
Моя надежда уязвимо-зыбка.
Но выстрадана красками улыбка.
Она - как чайка над разбитой лодкой.
Не оттого ли жизнь была короткой.
* * *
Сугробы - будто скомканные наволочки.
И полынья черна. И не засну.
И чайка на киоски и на лавочки
Бросается, как рыба на блесну.
Теперь не обойтись уже без грохота,
Без хруста лодок, мостиков, плотов.
Неужто же закончится эпоха - та,
С которой распроститься я готов?
Как в девяносто первом, не злорадствую.
Предвидел это я ещё вчера.
Бог покарает наши души рабские.
Не зря же полынья черным-черна.
* * *
Даже во сне этой жизни перечу я.
Время земное стремится к нулю.
Вот и не зван я на Брачную Вечерю.
Слишком я гусли и трубы люблю.
Сам же просил я блудницу: "Обманывай!"
Думал, что песенка эта нова.
Двадцать второю главой Иоанновой
Заскрежетали судьбы жернова.
Ночи становятся "чёрными вдовами",
Время - короче, а мысли - длинней.
Топчется лживое слово подковами
Бледных неостановимых коней.
* * *
Да это ведь не музыка. Затакты.
За горизонт вы заглянуть должны.
Взгляните: даже в мраморе стены -
Вчерашние восходы и закаты.
Я помню, как над Карловым мостом
Воздели руки в ужасе святые,
Когда ударил гром, когда впервые
Покрылось небо выдуманным льдом.
А вы… Да я не прав: вы мастер тоже.
И наплевать, что мне бы с глаз долой
И что рисунок детский со стрелой
Затактов ваших мне куда дороже.
* * *
Может быть, впервые я рассказываю
Не гитарной - ливневой струной
И горелку зажигаю газовую,
Не имея спички ни одной.
Ветер сник - воспользуемся паузою,
Годом високосным, сентябрём.
Самолётом рухнувшим рассказываю,
Как мы звёздной полночью умрём.
Не пишу я ручкой одноразовою…
Голосом царицынских руин
Об одной секунде я рассказываю.
Господи, Ты в Троице един.
* * *
Бреду от станции пешком.
Вороны все вокруг знакомы.
А мне бы - в пустынь с посошком,
Но есть на всё свои законы.
Я сам по кочкам - скок да скок.
Не так, как прежде. Кособоко.
И провода - как пара строк
Из "Ямбов" Александра Блока.
Зовёт последняя тетрадь
Позёмкой первою в озимых.
А там - железная кровать.
А там - антоновка в корзинах.
* * *
Спасибо за книгу, - ведь в ней ты сберёг
Вцепившийся в камни лишайник,
Суглинок, и каждый его бугорок,
И Богом забытый ольшаник,
За эту подкову над сгнившим крыльцом
И ставен сиротские звуки.
Охотник, ты снишься мне с тем ружьецом,
Которое пропили внуки.
У них дневники я твои приобрёл,
Где что ни словцо, то обновка.
Ты высыпал гильзы на письменный стол.
И там же - твоя бескурковка.
* * *
За Иорданом и поныне
Чей след заносится песком?.
"Глас вопиющего в пустыне", -
Сказал Исайя. И о Ком?!
Знал это Иоанн Предтеча.
Но по песку ползла змея,
Молве и славе не переча,
Всей чешуёй своей гремя.
"Разубеждать тебя не стану, -
Подумал Иоанн. - Ползи…"
Исайе верю, Иоанну.
Змеиной не хочу стези.
* * *
Всё заколочено, забито.
Перекрестись, само собой,
Перед могилкою. Забыто
Здесь чьё-то имя - и тропой,
И теми комнатами в доме,
Где, как известно людям, нет
Сегодняшних предметов, кроме
На окнах выцветших газет,
И коркой хлеба, и стаканом,
И, может статься, неспроста
Ильёй, Николой, Иоанном
На складне около креста,
Следами шин всё в той же глине,
А также хлюпаньем копыт…
Вот странно: всё со мной поныне,
А я давным-давно забыт.
* * *
Памяти Сало Флора
Забыла чайка, что была криклива.
И, ржавый брат скрипичного ключа,
За чайкою вдоль Рижского залива
Последний лист несётся грохоча.
Любимый мой гроссмейстер, Вы поймёте.
Уж Вы меня простите: прорвало.
Тот ржавый лист - вот он, в моём блокноте.
А где теперь то самое крыло?
Такой некрупный, как Вы шли понуро.
Сырой песок. А след-то неглубок.
Шепнули мне: "Я - сбитая фигура.
Меня положат скоро в коробок…"
И что идут на ум прогулки эти,
И эта осень, и весь этот год?
Ведь не скажу я никому на свете,
Каким был в жизни Ваш слабейший ход.
ОСЕНЬ ПАТРИАРХА
Кусты и те обобраны до нитки.
Тут всё известно вдоль и поперёк.
Что так Эребу захотелось Никты?
И кто Хароном мальчика нарёк?
Молчат о том на праздниках рапсоды.
Им счастье было - всем в бою полечь.
Что это? Диалектика природы?
На полуслове прерванная речь?
Денёчек бы. Исправить опечатки,
Чтоб истины добиться прописной.
Оставить бы историкам загадки.
Да нет загадок. Нету - ни одной.
И видишь на балкончике ворону.
А в клюве у разбойницы - пятак.
"Всучи монету своему Харону.
Не перевозит души он за так".
* * *
У Маруси случилось большое несчастье…
Семён Липкин
Ночь последняя, ночь Приэльбрусья
И дождлива была, и черна.
И брезентовой курткой Маруся
Незнакомца накрыла вчера.
Он не дышит, промокший до нитки.
Шорох крыл. Кто же их распростёр?
Всё предсказано: лучик карбидки,
С гор спускающийся транспортёр,
Даже вечность в потоке, рождённом
Выше самых заоблачных скал…
Незнакомец тот звался Семёном.
Он, Маруся, Одессу искал.
И нашёл. Больше нету загадки.
Ты печаль у Эльбруса развей.
Он исправить успел опечатки
В этой книге рукою своей.
* * *
Татьяне Андреевой
Дитя. Незавершённый звук.
Не в полевом венце - терновом.
Чему-то засмеялся вдруг -
И, бессловесный, стал он словом,
А значит - Обскою Губой,
И даже больше - всем Ямалом,
Чтобы пребыть самим собой
Вовеки - и в большом, и в малом.
* * *
Опять меняется погода.
Заиндевели провода.
Без жалости, без перехода
Дождливой хмари в холода.
Уж как мне дороги зазимки!
Добраться б до стены скорей…
Но, как ни странно, тем острей
Неподалёку от Лосинки
Я замечаю двух лосей
Сквозь поредевшие осинки.
* * *
Давно ли пахли порохом бойницы…
Открой себя, как дверь свою - звонарь
На колокольню, - свет впусти, ударь,
Чтоб встрепенулся огонёк божницы.
Так зачинались летописи встарь.
И ты ли был, собрат мой, тугодумен?
Ты - пленник, воевода, конокрад,
Тележный скрип, словечко невпопад…
И, чтоб не сглазить, крестится игумен.
Помрёт он завтра, а сегодня рад.
Пусть грешен я - и всё ж я твой подельник.
Лишь первый шаг. Лишь первая верста.
Аз. Буки. Веди. Совесть нечиста.
Открыл я двери. Чистый понедельник.
Я начинаю с чистого листа.
НАПОСЛЕДОК
Слова в утерянном блокноте -
Про наше расставанье, про
Вот эту спешку. Вы уйдёте,
Чтоб поскорей нырнуть в метро.
Мне больше ничего не надо.
Ремарк сказал бы: "Данке шён".
Пусть недописана баллада,
Пускай роман незавершён.
ТЕНИ МОНАХИНЬ В БЫВШЕМ МОНАСТЫРЕ
По коридорам интерната
Они, скользя или паря,
Бредут попарно, как когда-то.
Суров устав монастыря.
"Мальчишки спят…" - "Да я не трону…"
Где были кельи - всхлипы, сны.
Январской полночью икону
Монахини найти должны.
Сиянью проскользнут навстречу.
"А не она ли там? Смотри…"
"Я помню, что она с картечью,
Со шведскою пулею внутри".
И дует ветер бездорожья,
И тень касается стены.
О Тихвинская Матерь Божья,
Мы не забыли… мы должны…
КОГДА ПОВЯЗКУ СНИМУТ С ГЛАЗ
И даже наша боль - благая весть…
Юлия Покровская
1
На память твой сюжет пришёл.
Окно. Больничная палата.
Колеблется берёзы ствол,
Как тога Понтия Пилата.
"Христос воскресе!" я кричу.
Апрель - и половодье почек.
Ты будешь рада куличу:
Оставил я тебе кусочек.
Когда повязку снимут с глаз,
Весь мир предстанет поэтессе.
И скажешь ты, чтоб свет не гас,
В ответ: "Воистину воскресе!"
2
Спасайся же! Беги за стрекозой,
Чтоб не ослепнуть в этой теми зыбкой.
И знай: слеза сменяется улыбкой -
И нашею становится слезой.
Кто был в твоём бреду? Те, кто внизу
Кричал: "Немедля прекрати охоту!"
А ты училась у неё полёту,
У стрекозы. И не стирай слезу.
3
Позабудь о могиле наяд,
О летейском дыхании грота.
Пусть себе финийкийцы вопят -
Подвывать им тебе ли охота?
А сатир среди веток притих:
Где ты, мол, в этом мире, открытом
Для Билитис, рождающей стих,
И царапает землю копытом.
Зря надеется он. Ты - ничья!
Ну же, прыгай от радости, прыгай!
А сатир сгоряча для ручья
Вмиг пророет канаву мотыгой.
* * *
И ты оглянулся на звук, будто звук
Возможно увидеть. И в роще сосновой
Гривастая тень зазвенела подковой.
И тут же растаяла. Что это вдруг?
Знакомый соблазн и знакомый намёк.
И как же заезжены эти словечки!
И жалки… Уж лучше бы жало уздечки.
А где же кадильница? Где ж тот дымок?
Глупец, ты поспорил опять с красотой.
Но спор с красотой бесполезен и краток.
Что есть у тебя? Только этот задаток
Твой звук. Не серебряный, не золотой.
* * *
В междуречье Суры и Свияги
Заливало дождями овраги.
Половодье смывало мосты…
Жизнь прошла. Но по-прежнему ты
Там, где жмутся друг к дружке коняги.
Ну, скажи, сколько не был ты дома?
Пар. И спины коняг. То не дрёма.
То удел - и не так уж он крут.
И не дрогнет хоть чей-нибудь круп
Под раскатом осеннего грома.
ЖЕРЕБЁНОК
На виду у наших деревенек
Для него готовящих узду,
Он давно ль поднялся с четверенек,
Необсохший, словно бы на льду.
Бьёт хвостом по крупу кобылица.
Звёздочка на лбу. Родная масть.
Где-то за телегой пыль клубится,
Чтобы в знойном мареве пропасть.
Не избегнешь упряжи, похоже.
Хлещет по ушам натужный храп.
Дрожь мгновенно пробежит по коже.
Эх, на волю вырваться когда б…
А потом бы по росой омытым
Травам поскакать вон там, вдали,
Чуя неподкованным копытом
Грозную уступчивость земли.
* * *
Забыл ли, как на речке Ольше
На валуны бросало плот?
Не меньше праздников, а больше,
Хотя на убыль жизнь идёт.
Как брёвна от костров потели,
И как закручивало нас!
На Ольше все мои потери
Находкой обернулись враз.
Скрипели тросы, даже скобы…
И снится: выронил весло.
И хохочу, как прежде, - чтобы
Не потонул, чтоб пронесло,
Чтоб старец Фотий шёл из кельи,
Чтоб с ветром билась борода:
"Откеле праздники? Откеле…
А так бывает иногда!"
* * *
Напрасно мечтаю о доме,
Долгов ни за что не верну,
Когда я в греховном Содоме,
В египетском вечном плену.
Из ножен я меч не достану
И клясть не посмею беду,
К Затворнику я, к Феофану,
К святителю ныне приду.
И даст мне он Слово - не крышу.
"Что? Жжёт? Всё равно не туши!"
Тогда я всю правду услышу
О тайных недугах души.
ФЕОДОРА СТАРИЦА
Не пытай меня. Как тут ответить, чадо?
Скоро сам перешагнёшь межу.
Что я видела? Не мне промолвить надо.
Что слыхала? То ли я скажу?
Вот уж бесы на тебя глаза таращат.
Прибегут прощаться раньше всех.
К изголовью тотчас книжищи притащат,
Где прописан каждый смертный грех.
Жди спасения от пасынка и дочки:
Две молитвы - а слеза одна.
И не станет книжищ, кроме малой строчки.
Непонятна демонам она.
* * *
Рощица была раздета
Возле морга ноябрём.
Хоронили как поэта
Друга нашего. И где-то
Рядом с нами сгусток света
Всколыхнулся. И на это
"Все там будем. Все помрём"
Мудро маляры сказали
Шли с заляпанным ведром
Мимо зала. Ну а в зале,
С астрами, как на вокзале,
Быть неузнанной стремясь,
Чтоб с покойным не связали,
Муза думала в печали:
"А была ли эта связь?"
* * *
Не давался мне свет над избою
И в окошках, и мост над Окой,
И как стадо бредёт к водопою
Мимо церкви, где вечный покой.
У речушки, в кустах краснотала
Признавались скворцы и дрозды,
Что в рисунке моём трепетала
Не звезда, а близняшка звезды.
И коровы с ухмылкой мычали.
И грозил мне подпасок кнутом.
В каждой краске есть привкус печали.
Правда, понял я это потом.
Вот и в хор я подался, но скоро
Мне сказали: "Ты лучше молчи"
И ушёл я, вздыхая, из хора,
Дирижёрше оставив ключи.
Не давалось мне пенье, хоть тресни,
Только губы сжигало оно.
Но чужие красивые песни
Я любил как свои всё равно.
* * *
Тот жил и умер, та жила
И умерла…
Арсений Тарковский
Вот он в беседке. Вот с женой.
Вот с книжкой чеховских рассказов.
За шахматами вот. Живой.
И всё снимает Кривомазов.
Ведь он уходит, поспеши!
Уходит, на глазах мелея,
Как уходила в камыши
Его речушка Сухоглея.
Пускай всё видит объектив.
Слезинку вытер. Садик. Лавка.
Сел, чью-то руку отпустив -
Незримую. Нужна проявка.
Здесь он Мариною прощён.
Здесь отвернулся он от Тани.
Вот здесь со словом Божьим он,
А не с иголкою в гортани.
Он ждёт, что зазвенит звонок,
Что сцену отдадут сирени.
Снимай скорей! Он одинок,
И тень его схватили тени…
Уже его не отобьют.
Спешит фотограф Кривомазов.
А тот: "Я выиграл дебют
И сдался, в эндшпиле промазав".
НОВОГОДНЯЯ ПЕСЕНКА
А сегодняшний снег идёт
По вчерашней моей стране…
Сколько лет тебе, Новый год?
Ровно столько же, сколько мне.
Ну, спасибо, что ты пришёл.
Мог бы вовсе ты не прийти.
Может, сядем вдвоём за стол,
Посидим с вином до пяти.
Бабу Снежную оживи,
Пусть садится с нами она:
Ведь тоскует, небось, по любви,
По стакану сухого вина.
Пусть мне даст метлу и ведро,
Пусть зажгутся два уголька.
Вот фамильное серебро
Из соседского флигелька.
А куранты двенадцать бьют,
Бьют по-русски: была не была!
И поэтому люди пьют,
Как ещё Диканька пила.
Сколько лет тебе, Новый год?
Ровно столько же, сколько мне.
А сегодняшний снег идёт
По вчерашней моей стране.
ТРИ СОНЕТА
1
Тепло из дома ветер выдувал.
Была Солянка заполночь метельной.
Спросили Вы: "Погреемся в котельной?"
Я спать хотел, но мы пошли в подвал.
Ведь я в командировке двухнедельной
Был в Чиатурах, лез на перевал,
Который в недрах молнию скрывал
Из вашей строчки. Ну а здесь в нательной
Рубахе местный встретил нас Сократ.
Тряс Вашу руку. Был безмерно рад
И "оджалеши", и "киндзмараули".
Вы были с ним, ей-Богу, наравне
И под конец не наливали мне,
А может, на меня рукой махнули.
2
Я вслед за Вами полюбил тот дом.
Пластинки были здесь всего дороже -
Конечно, мне. А Вам… а Вам, похоже,
Хозяйка. Поначалу. А потом…
Потом она мне признавалась: "Боже,
Я выгнала его - и поделом…"
"О чём вы?" Я не понял. "Да о том:
Придёт - и заведёт одно и то же".
И мне всё это стало поперёк
Моих понятий. Я ведь был игрок.
Вы шар давали мне. Я Вам - фигуру.
В том доме, где Париж с его весной,
Лоза осталась Ваша над Десной,
Из-за чего я ночью плакал сдуру.
3
Как маленький божок, играл Ашот,
Был асом даже среди этих асов
Таких, как Азик, Устрица, Митасов.
И Вам он три шара давал вперёд.
Его ждал суд. Как жить без выкрутасов,
Когда квартиры нету пятый год?
Он знал, что Вы найдёте верный ход.
Вы - классик. У него же - восемь классов.
Приедет в Переделкино за так,
Поднимется к бильярду на чердак,
Где барыши подсчитывают музы,
Где всё внизу решают, где шары
В последний раз по правилам игры
Влетают с треском в сетчатые лузы.
* * *
Мне рассказано дедом Тимошкой:
Дескать, горка была тут крута,
И стоял монастырь со сторожкой,
И вели к ним святые врата.
Их округа и не забывала,
Слыша слабые звоны извне:
Колокольное эхо подвала
Не стихало в сырой глубине.
Это эхо и я не забуду,
А не глину, не мусор над ней,
Не бурьян, не полынь и не груду
Вросших в землю гранёных камней.
* * *
Так сколько же: сорок четыре?
А может, уже сорок шесть?
Мне снится, что где-то в Сибири
Ты есть у меня. Ты ведь есть?
Ты есть, чтоб я крикнул: "Послушай,
Прошу тебя - дом свой дострой!"
Какое же сходство с Милушей -
С твоею родною сестрой!
А я и не знал. И всё мимо,
Как тот, за вагонным окном,
Клочок паровозного дыма,
Пропавший в пространстве ночном,
Как женщина эта в метели
На станции Белая Падь,
С которою мы не успели,
Прощаясь, и слова сказать.
Мне снится тайга и зимовье,
Распадок, а дальше - Витим…
Проснусь я - и слово сыновье
Становится словом моим.
* * *
Мне дана ещё одна отсрочка,
Потому что вновь невдалеке
Никоновской летописи строчка -
Городок Тешилов на Оке.
Ясно виден мне уже отсюда
Церковки двусветный четверик.
Что-то в мыслях, словно бы полуда,
Шелушится. Срок мой невелик.
Тут же рядом Липицы. Суббота.
Крепости оплывшие валы.
Где ж она, о малых сих забота?
Все мы до единого малы.
Знай, Тешилов, про мои печали.
И друг друга мы пройдём насквозь,
Чтобы, как предвиделось вначале,
Наконец решенье родилось.
* * *
Александру Ревичу
Снег последних твоих декабрей…
В твоей музыке и в долголетии,
Как в старинных строеньях Сванетии,
Нет железа - ни скоб, ни штырей.
* * *
Вот избушка. Да на курьих ножках.
Вот и ступа. Вот и помело.
Я не отрекаюсь. А в Сторожках,
Во дворе обители бело.
Мне в сугробы босиком - вели-ка!
Зря стаканы с водкой - на столах.
Не гони меня ты, Васька Лыко,
Подмастерье в каменных делах.
Говоришь, однако: "Речи гладки.
В речи ты не верь. Они хитры.
То ли дело - луковицы-главки,
Бельведеры, шпили и шатры…"
Вот я и боюсь, что обескровлю
Звук зимы подобно камышу,
Хоть твою чешуйчатую кровлю
В это слово я переношу.
Для меня царёва оборота
Ярость в грозном погляде жива:
Пораскрыты все мои ворота,
В трапезной моей растёт трава.
Что с того, что грешен наш владыка,
Я, пожалуй-то, его грешней.
Но артель всё та ж у Васьки Лыка -
Потому я и прибился к ней.
VIII В КОМБИНАТЕ ГУХОНЕМЫХ (КОММЕНТАРИИ В ПРОЗЕ) ВСЁ НАЧАЛОСЬ С ТБИЛИСИ
Нет, гора, твоей пташки: в полёте сгорела, Или вьюга пронзила бедняжку насквозь. Вот она и коснулась в пространстве предела. Может быть, ты мне скажешь: так что же стряслось? Мурман Лебанидзе 1 Счастливы (без всяких оговорок) мы бываем, увы, не так уж долго. Какой-нибудь миг. Этот миг, слава Богу, был и у меня. Во всяком случае, как мне кажется, всё об этом свидетельствует. Тогда, совсем молодым, я жил в Грузии, я жил Грузией. Кстати сказать, далеко не каждому из нас дано взять в толк, что именно, не обнаруживаясь очевидным образом, навсегда уплывает из наших рук на переломе дней. Все по-разному переживают утраты и упущения. Классическим стал образ кинто в шароварах, роняющего товар с огромного табахи (деревянного блюда) на землю и бросающегося лихорадочно его собирать, чтобы немедля вновь водрузить на место. – А что? Разве было что-то? Это вызывает улыбку. На то он и кинто. Подумаешь, чепуха какая. У меня получилось так, что перед самым отъездом в длительную командировку в Венгрию я провёл пару дней в окрестностях Земо Млети, там, где древняя крепость своей башней бросает вызов времени и где крестьяне, посылая в разведку цепкие кустарники и деревья, отвоёвывают землю у каменистых гор. И тут до меня дошло, что всего этого в моей жизни никогда больше не будет, что на пиросманиевском полотне “Ишачий мостик” не останется ничего, кроме несущихся во тьму чёрных птиц. Простите меня, дорогой батоно Нико, что я столь беспардонно, ради красного словца, воспользовался Вашей картиной, – но Вы ведь догадываетесь, для чего мне это потребовалось. Я вижу иногда во сне вовсе не тбилисские кварталы советской поры, а уголки старого города, который с гордостью именовался вторым Парижем. Надеюсь, что я стал-таки писателем. И уверен: этого бы не произошло, если бы судьба не подарила мне Грузию. Произошло невероятное. Как говорится, прихоть колеи полнолуний. Уже перед самым концом солдатской службы в Нахичевани-на-Араксе меня направили по какой-то надобе артвооружения в десятидневную командировку в штаб Закавказского военного округа, в Тбилиси. Там я встретился с поэтом и главным редактором республиканской “Литературной газеты” Иосифом Нонешвили, которому посылал с берегов Аракса письма и который, бывало, отвечал. Он рассказывал о Египте и Индии, где недавно побывал. Мы шли по проспекту Руставели. Я не верил происходящему. Этот город казался мне блистательным центром поэзии, литературной Меккой. Здесь помпезно, сменяя друг друга, проходили Декады культуры, и на них слетались отовсюду тогдашние “звёзды” искусства; грузинская поэзия благодаря вдохновению московских переводчиков завоёвывала сердца миллионов читателей – ничуть не меньше, чем грузинские вина и кино. Это был праздник с великолепными афишами, пышнейшими банкетами, самый разгар праздника, которого не случалось прежде и которому, как ни жаль, впредь уже не дано повториться. Мы шли по красавцу-проспекту с Иосифом, и его буквально через каждый шаг останавливали, раскланивались с ним. Известность и популярность Нонешвили были поразительны, но я не хотел торчать столбом возле оперного театра или подвальчика “Воды Лагидзе”, поскольку боялся встречи с патрульными. Иосиф запретил называть его по отчеству (Элиозовичем) и на “вы”: – Ты что, с ума сошёл? Потом его внезапно озарила какая-то идея, и мы направились прямиком к Михаилу Кузьмичу, главному редактору газеты ЗакВО, молодому ещё, но седовласому, по-рязански голубоглазому. Мы договорились с полковником, что я вскоре, после ухода в запас, перееду сюда на работу. Вечером Иосиф повёл меня к себе домой. Из окна его шикарной квартиры открывался во всём блеске вид на Мтацминду. Я был в полном потрясении. Пятилетний сынишка Иосифа, оставшись на минутку без присмотра, нарисовал на стене карандашом то, что видел постоянно, - гору и нечто, похожее на фуникулёр. – Так ты художник? - изумился гордый отец. - Надо будет сохранить эту наскальную живопись. 2 В ту пору я считал Нонешвили едва ли не первым стихотворцем Грузии. Мне нравились его строки с горячей мольбой об отпущении грехов от имени человека, дерзнувшего украсить орнаментами церковь Кошуэты; тут были и бирюза портрета Бараташвили, и ветер вин и фруктов, веющий из Алазанской долины, и речка Квирила и над нею - крепость Моди Нахе, и безмолствующие часы в комнате Акакия, и мцхетские ворота, думающие о Светицховели и древнем Армази… И только впоследствии до меня дошло, что всё это сочеталось в Иосифе с верой в гений Сталина. Это он в знак протеста против хрущёвских “нападок” на вождя читал на историческом митинге 7 марта 1956 года стихи, воспевавшие тирана. С лёгкой руки Иосифа и прозаика Эммануила Фейгина (автора повести “Мальчик пляшет под дождём”) мне, застенчивому юнцу, удалось войти в литературную среду Грузии, часто бывать в республиканском Союзе писателей, где я не раз сталкивался с самим батоно Галактионом. Слово “сталкивался” я употребил не случайно: такое сильное впечатление производил на меня всем видом Табидзе, ярчайший представитель “Синих Рогов”. Действительно, даже его гибель вызвала у кое-кого зависть. Воздействие поэзии и облика Галактиона было почти физическим: жизнь и смерть у него всегда преодолевали железную стену соцреализма. …Лес костями звенит – и безумие в звоне: Бездыханные дни канут раз навсегда! Оттого, как во сне, мои синие кони К вам прискачут. Да вы уже мчитесь сюда! Логотипом моего тогдашнего бытия стали слова Гоглы Леонидзе: “Стих и юность – их разделить нельзя, их одним чеканом чеканили”. К моему удивлению, такие львы, как Демна Шенгелая, Карло Каладзе, Алеко Шенгелия, брали меня с собой в поездки, в горы, на встречи с читателями. Общение с этими тяжёловесами стоило многого. Мы дружили с Отаром Чиладзе, у нас были доверительные отношения. Мы спорили с ним о Есенине и Тихонове, а чаще всего – о Лермонтове, которого он переводил на грузинский. 3 Дружил я и с редактором издательства “Заря Востока” Гоги Мазуриным, который щедро давал мне, пока ещё не выучившему грузинский, подстрочники для перевода и был известен, кроме всего прочего, элегией из книжицы с почти некрасовским названием “Дороги и мечты” (“Лань печальная копытцем небо в луже шевелит”). – Тебе обязательно нужно познакомиться с Эльснером, – однажды посоветовал он. – И подчеркнул: – Обязательно. – Это такой старый чудак? – спросил я. – Не такой уж он и чудак, – насупился Мазурин. – И не такой старый. Пастернак, бывая в Тбилиси, часами разговаривает с ним. Это что-нибудь значит?! Эльснер показался мне жёлчным, недоверчивым и хвастливым. Из-под длинного больничного его халата выглядывали несвежие штрипки от солдатских кальсон. В первую же минуту, не подавая сухой руки, он сказал: – Вы книги воруете? Я стушевался. Заметив моё смятение, Владимир Юрьевич пояснил (уже чуть мягче): – У меня утащили второй том “Антологии современной поэзии”. Убедившись, что я – человек тёмный и что на моём челе ничего не отразилось, добавил: – Антология была выпущена мною в Киеве ещё в 1909 году. Впрочем, идёмте-ка чай пить. Или вы только водку дуете? Старец, вздыхал я, развалина, как от него древностью веет. Впоследствии, думая о нём, я почему-то прокручивал в памяти последнюю строфу из его “Задворков”: “Вечерний звон. Две крысы в синем гриме помои пьют с прогнившего полена. Тень Иова встаёт и долго славит имя, запечатлённое на этих кучах тлена”. Пардон, пардон, дорогой Владимир Юрьевич. И тем не менее смотрел я на него, разинув рот. Говорили, что он окончил, как минимум, Сорбонну и Кэмбридж, был рикшей, кули, докером, мачетеро… В “Заре Востока” вышли две книжки с его стихами, где речь шла об экзотике азиатских и африканских стран. – Вам понравилось? – напрямик поинтересовался он, когда мы принялись пить чай (“извините, не крепкий, писи сиротки Хаси”) и есть хачапури, которые я притащил в немалом количестве. Понравилось ли мне? Я попытался ответить, но он перебил меня: – Вам, конечно, подавай художественные образы. Как же. А вы вначале научитесь писать без этих самых образов. Интеллект чтобы снаружи был. Не прячьтесь за безделушками, молодой человек. У нас об этом и с Межировым был разговор. И он, представьте себе, не спорил со мной. Я и Ахматову учил писать. Серьёзно. Блок со мною считался. А вам бы всё спорить! Я и не собирался спорить. А он вновь поинтересовался: – Вы читали “Выбор Париса” и “Пурпур Киферы: эротика”? – Это что? Он снисходительно задержался острым взглядом на моём глупом лице. – Это? Книги. Мои. Они были изданы в Петербурге. В 1913-м. – И вдруг: – Вы небось ни одной девки не пропускаете? Да не тушуйтесь, право. Что там. Такой юный. Я и то ещё не перестал к жене приставать. Воздух Грузии этому способствует. И почесал одну ногу другой, и при этом какая-то из штрипок развязалась. Действительно, воздух вокруг Владимира Юрьевича был наэлектризован эротикой. До самого конца он имел право заявить, что его “уже издалека щекочет жало неубывающих, упорных ароматов”, и раздевать, хотя бы в грёзах, “див из прачечной”, которые “сливают потоки пенных вод жемчужно-синих”. Всякий раз, провожая меня и убедившись, что я ничего не стянул с книжных полок, он предлагал мне послушать его перевод (самый первый в России!) “Пьяного корабля” Артюра Рэмбо. – Вы не против? Я, естественно, не протестовал. И слушал его, переполненный эротикой, голос: Сливаясь с пучиною всё неразлучней, То встретил, что ваш не изведает глаз, – Пьянее вина, ваших лир полнозвучней Чудовищ любовный, безмолвный зкстаз!.. – Ну, как тебе Эльснер? – спросил меня Мазурин. – Ходит за мной следом, бдит, чтобы я чего не утащил, – ответил я. Гоги усмехнулся. – Не обращай внимания. Это так, ерунда. Он был шафером на свадьбе у Гумилёва и Ахматовой. Не одного только Эльснера подарил мне Мазурин… Сколько живу – оплакиваю его ранний уход, словно только вчера мы похоронили нашего Гоги. В некрологе Союза писателей Грузии было сказано: “Он ушёл от нас, но с нами остались его строки и полотна”. О нём (к сожалению, бегло) я написал в романе “Блюз для Агнешки”, пытаясь не забыть о его долгих пеших странствиях по Дальнему Востоку и Западной Сибири, о его матери – Марии Георгиевне Санадзе, мудрой женщине, в которой переплетались причудливым образом крестьянские, картлийские корни и тбилисская вышколенность, простота виноградаря и утончённость столичной горожанки, знакомой едва ли не со всеми знаменитостями и уж точно со всеми музеями и их содержимым, о его жене Марии Гельви, француженке по отцу (мы звали её Мариной), талантливо переводившей с грузинского… Мазурину посвящены также мои стихи из книги “Оползень”: Гоги побледнел: “Совсем раскис. Виновата, кажется, дорога…” Глянул на развалины Корого, Пошатнулся, выронил эскиз. “Если что… Марине передашь, Чтобы здесь искала трёх монашек…” И подумал, что суёт в кармашек Дар Гудиашвили – карандаш. “Забери холсты… они в Ваке… Кой-кого сбивал я с панталыку. Разыщи юродивого Кику: Для него одёжка – в сундуке…” Девочка несмело подошла, А за нею – с осликом старуха. Башни Калакети и Иухо Уплывали в небо из села. Совсем недавно у архимандрита Рафаила (Карелина) я нашёл запись его давнишней беседы с Мазуриным – и не удержался, решил обязательно процитировать, что говорил “в те баснословные года” незабвенный Гоги: “Я учился в художественной академии, и тогда пришла мне мысль, что лица людей надо писать, употребляя зелёную краску. Меня обвинили в сюрреализме и исключили из академии. Теперь вот я думаю, как нарисовать картину звёздного неба; я хочу это сделать, хочу найти цвета, но у меня ничего не получается. Обычный тёмный фон и жёлтые точки от золотистого до кровавого цвета – это не ночное небо, а скорее жуки, которые копошатся в чернозёме. Я пробовал рисовать небо багряным цветом, а звёзды – зелёным, но это вызывало какое-то чувство тревоги, – как будто смотришь на агонию больного: багряный цвет поглощал звёзды и казался заревом пожара. Я пробовал применить принцип негатива, написал фон золотистым цветом, а звёзды – чёрным, но вышло ещё хуже: когда посмотрел на рисунок, то показалось, что огромные стаи ворон кружатся над землёй. Решился я на другое: одухотворить звёзды и написать их похожими на человеческие лица; и опять неудача, – я увидел перед собой парад отрубленных голов. Тогда я попробовал изобразить звёзды в виде светящихся многоугольников, но это оказалось холодной абстракцией, какой-то геометрической игрой воображения. У меня нет денег, чтобы купить несколько холстов, и я стираю одну картину, чтобы написать на её месте другую. Затем я подумал изобразить звёзды с длинными заострёнными лучами, которые пронизывали бы всю картину, но получилась какая-то сеть, подобная паутине. Затем я хотел изобразить звёзды как вспышки электричества на стыке двух проводов, – и опять вышло не то: это были не звёзды, а искры бенгальских огней, которые зажигают дети на ёлке. Я решил изобразить звёзды в движении, начертав их траектории в виде пересекающихся эллипсов разных цветов, но на картине вышло оперение каких-то сказочных птиц. Я так и не нашёл красок для бесконечного. Я стёр последний рисунок, загрунтовал холст, и теперь хочу нарисовать какой-нибудь пейзаж для продажи…” А несколько позже, в ту пору, когда Карелин принял монашество, он случайно встретил Мазурина, перенёсшего два тяжёлых инфаркта. Гоги знал, что третий окажется смертельным. – Я думаю, – сказал он Карелину, – ты хочешь спросить меня: остался ли я таким же безбожником, как прежде, или поверил в Бога? Пока отложим этот вопрос; я хочу сказать тебе о другом. Последнее время меня преследует мысль, которую я не могу отогнать: что находится за пределами видимого мира, там, выше звёзд? Я думаю, что не верю в Бога, но иногда мне кажется, что обманываю самого себя; я ловлю себя на том, что часто в разговоре стал произносить слово “Бог”, а почему – не знаю сам. Будущий архимандрит ответил: – Потому что звёздное небо стало для тебя встречей с тайной. 4 Редактором моей первой книжки в “Заре Востока” был Армен Зурабов, как я его до сих пор называю - Армик, прозаик, драматург, режиссёр. Сборничек, названный мною “Встречный ветер”, оформляла молодая красавица Динара Нодия, которая в спешке дала название совсем иное – “Навстречу ветру”, из-за чего мне стало дурно. Но не о моей книжке речь – о Зурабове. Он не побоялся уже во второй половине пятидесятых взяться за избранное Тициана Табидзе, которого, кстати, мечтал нарисовать Мазурин, да так и не успел. Не каждый в издательстве стремился редактировать книгу Тициана. А Зурабов сказал Нине, вдове расстрелянного в тридцать седьмом году поэта, что берётся за принесённые ею подстрочники и начинает работу. Вдова Табидзе была во всём достойна своего мужа, умевшего заглянуть вперёд и советовавшего не искать его сердца в стакане вина. Она жила в ту пору на улице Чавчавадзе, в квартире, где всё напоминало о строчках, известных многим и по переводу на русский язык Пастернака: Не я пишу стихи. Они, как повесть, пишут Меня, и жизни ход сопровождает их. Что стих? Обвал снегов. Дохнёт – и с места сдышит, И заживо схоронит. Вот что стих. Борис Леонидович по-братски любил и Тициана, и её, Нину, и их дочку Ниточку. После ареста Табидзе он регулярно присылал семье друга деньги, а вместе с деньгами - слова ободрения. Вот ещё одна трогательная деталь: умирая, Пастернак срочно вызвал в Москву Нину, потому что верил: с ней ему будет легче… Когда избранное Тициана готовилось к печати, я встретился с Симоном Чиковани (это было на родине Важа Пшавелы, в Тианети, одном из самых прекрасных мест на земле), и услышал, что Тициан Табидзе – настоящий пророк и что он как крупный художник предвидел, наподобие Гумилёва, свою гибель. Единственное, что не удалось поместить Зурабову в книгу, которая (подумать только - в пятьдесят седьмом!) стала одним из шедевров “Зари Востока”, - это письма, в том числе от Андрея Белого и Бориса Пастернака, о чём Армен сожалеет до сих пор. А в редакции моей газеты по-своему отнеслись к событию. Были разговоры о том, что “вседозволенность” до добра не доведёт: мол, зачем нам, скажите на милость, “царей усыпальница”, намёки на разрушение храмов (“Если церковные своды обвалятся, сразу Куру заградят, как плотиной”, рыдающие тари, загнивающие плоты, поклоненье Николе, Бальмонт, кажущийся “Христом, идущим вослед за ветром…”) Редколлегия даже отклонила рецензию на книгу, написанную ведущим критиком Бесо Жгенти… 5 И ещё – Володя Соколов. Как же без него?! Два дуба темны, как ворота, Распахнутые навсегда… Здесь явно отсутствует кто-то, И кто-то стремится сюда… Примеряясь к неизбежному будущему, он пытался успокоить: “И впредь да будет незаметным моё отсутствие”. Нет, Володя. Заметно. Да ещё как. …Проспект Руставели. Вот он, Владимир Соколов. Стоит у книжного магазина напротив оперного театра. Элегантный. Без намёка на небрежность, хотя почти мальчишка. Уже тот, кто в золотое время суток ждёт золотого слова (“потому что не до шуток в пятьдесят шестом году”). Не терпящий пошлости, насилия над собой (даже если это касается Ярослава Смелякова), умеющий слушать нищих, но не пустословов. Он разговаривал с Александром Цыбулевским. Шуру у нас в газете категорически не печатали, ни одной строчки, главный называл его декадентом. Цыбулевского с третьего курса университета “выперли” – отбывать срок в лагерях “за антисоветскую деятельность”. К тому же осудил его военный трибунал войск МВД. В своих стихах, как в консервных банках, Шура хранил дым домашних очагов – мегрельских, кахетинских, имеретинских. Можно было различать оттенки запахов. Сегодня я их, Володю и Шуру, часто вижу вдвоём – на том же самом месте, и до меня доносятся Шурины слова: Ах, Боже мой, и всё-таки я жил Неизречённо и огня боялся. И рифмовал счастливый звук: кизил. И палочки кизиловой касался. Помню, как Володю привело в восторг высказывание Цыбулевского: “Гром. Гром покатил. С чем его сравнивали до колесниц, до телег? – ведь не с чем! И колесо выдумали, и колесницу изобрели благодаря грому…” Цыбулевский позвал нас к себе. У него дома творила новые миры странная и прекрасная Гаянэ Хачатурян. О ней спустя десятилетия я тоже написал в “Блюзе для Агнешки”: “Когда-то, в день знакомства, она подарила свою фотографию, сделанную Параджановым. И сказала: редко кому дарю, но ты – мой брат. Двоюродный. А кто же родной? Шура, конечно. А фото, спросила она, тебе нравится? Не то слово, сказал я, гениальный персонаж, и фотограф – гений. Шура уловил эти слова и уколол: графоманим понемногу? Но вот по сути-то, добавил он, верно. Гаянэ была трогательным существом. Не от мира сего, бедствовала – и всё равно не жаловалась. Да и на что ей, художнице от Бога, жаловаться? Тарковский, говорят, посвятил Гаянэ стихи. Надо бы найти их. Она сама была поэзией. Её картины завораживали. “Вуаль вино”. “Слон – пурпурный смычок”. “Шествие апельсинового дня”. “Утром: шорох фиалки”. “Вечером: арфовая ночь синего ореха”. А здесь, у Цыбулевского, выражая преклонение перед Шурой, украшала Гаянэ фресками стену лоджии. Одна за другой появлялись голубоватые девушки, которые готовы были пришпорить своих голубоватых коней…” Соколов продолжал восторгаться! И, неожиданно задумавшись, сказал, что ему надо бы найти какую-то девочку – лет десять назад “Пионерская правда” напечатала её стихи: Вы войдёте в сад, товарищ Сталин, Где курчава зелень и густа. И сорвёте ягоду устало. Ведь давно не ели вы с куста. Володя искренне беспокоился об этой девочке. Чувствуете, говорил он, какой болезненный укол в детских строчках! А? Вечером мы пришли в гостиницу “Сакартвело”. И, несмотря на поздний час, он захотел побывать на улице Чавчавадзе. – Пойдём, покажешь дом, где живёт вдова Тициана Табидзе. Её ведь, кажется, Ниной Александровной зовут? Не каждому поэту Бог даёт такую подругу… Из сегодняшнего дня отвечаю ему: конечно, не каждому, но тебя Господь не обошёл Своей милостью, дав тебе Марианну: благодаря и ей твоя “несбыточная сирень” ни на миг не увядает. Ты Марианну предвидел. Я буду рад, слегка отъехав, Что Дом, не зная почему, Стоит задумчивый, как Чехов, И улыбается всему… Марианна, кстати, стала самым юным директором Музея Чехова, расположенного в здании на Садовой-Кудринской, которое в надежде на лучшие времена приобрёл некогда Антон Павлович. Очаровательная и романтичная, она сама как будто вышла со страниц чеховских книг, поклявшись никогда с ними не расставаться. А в тот, далёкий уже, вечер Володя Соколов долго вглядывался в тёмные окна табидзевского дома, читал без запинки стихи Тициана в пастернаковском переводе, опершись на платан, который возникнет в его строчках в стихотворении “Тбилиси! Туманная рань!..” А затем мы были вдвоём в Доме творчества в Квишхети, высоко в горах. Ночами в открытое окно к нам на огонёчек безабажурной лампочки летели мотыльки, свиристели цикады, а он переводил стихи Реваза Маргиани, не смыкал глаз, пока стрекотухи не смолкали, “зажав в кулачке рассветной росинки монету”. Воспевший мтацминдские сосны, он действительно был здесь не чужаком и имел право сказать: “Порадуюсь, что я не посторонний”. А иначе не вышла бы в издательстве “Мерани” его книга “Я тебе изумляюсь, Тбилиси”. В Квишхети Соколов вспоминал, как в 1949 году (когда партийная критика, стремясь разорвать в клочья Пастернака и Ахматову, обрушилась на лирику вообще) он оставил среди студенческих конспектов запись: “Поэзия одного человека гибнет для всех”. Это так поразило его, что он содрогнулся: “Но ведь этот вечер, весь в огнях, голосах, деревьях, – всем! всем! всем!” …Недавно мы с Марианной Роговской-Соколовой вспоминали давнишнюю раннюю весну, тбилисскую улицу Камо, 2, улицу прямо-таки фешенебельную, изящную, расположенную на берегу Куры. Ладо Сулаберидзе и Резо Маргиани звонили чуть свет и вскоре приезжали к Володе и к ней; завтракали на балконе гостиницы. Появлялась и жена Маргиани – Нина, русская по национальности, но говорившая по-русски с трогательным акцентом. Она знала наизусть “всего” Реваза, и ей больше всего нравились стихи о птицах, словно бы нарисованных близ отрогов Кавкасиони (такими неподвижными они казались), и о девяти юношах, погружающихся в сырой туман зелёной, самой зелёной в мире Гвалды. Какая-то печаль появлялась в её глазах, когда она обращалась к строчкам своего мужа, где говорилось о ненадёжности, быстролётности мига под родной кровлей и звучала просьба, обращённая к минуте, чтобы та не загасила вдруг искорку жизни. К компании присоединялся Отар Нодия, руководитель главной редакционной колллегии по художественному переводу и литературным взаимосвязям при Союзе писателей Грузии. Ладо говорил Соколову: прочти, мол, “как мы ведём высокие беседы, с грузинской речью русскую смешав”. И приглашал в ресторан. Внизу, под балконом, стояли наготове несколько машин… Володя был непоседой, его постоянно тянуло сюда, чтобы “жить в горах легко и гордо”, а отсюда - домой, туда, “где, испытанье выдержав на ветхость, желтеет каждый болдинский листок, как библиографическая редкость”, чтобы писать о том, как “дул ветер в феврале в Тбилиси, гремя железом листовым. Гремели форточки. И листья, гремя, неслись по мостовым”. И однажды, весной, после звонка Нины Маргиани пришлось лететь для прощанья с Ревазом, певцом родного села Мулахи, неприступного Легазариели, каменных хребтов Ушбы, волн Энгури. Безутешная Нина, поддавшись внезапному горестному порыву, открыла все окна, и балконы её опустевшего дома висели над Курой и смотрели во все стороны света. Володя с Марианной, оплакав Резо, сходили и на могилу поэта Леонида Тёмина, который умер в Тбилиси в день своего пятидесятилетия (он бежал из Москвы, от своего юбилея)… И опять мысленно возвращаюсь я к тому вечеру, когда мы вошли с Володей в гостиницу “Сакартвело” и в глаза нам бросилось строгое предупреждение рядом с выключателем: “Уходя, гасите свет!” – Вот глупость! – сказал он. – Нельзя этого делать. Он остался верен себе до конца. Он не выключил после себя свет. …Да, всё начиналось с Тбилиси, с Грузии.
СТАРЫЙ ЦИРКОВОЙ НОМЕР Мне слышен треск сгорающей лозы, И женский плач летит во все края, И в каждой винной капле вижу я Запёкшуюся капельку слезы… Александр Межиров (“Слово на кахетинском празднике”) ...1958-й. Тбилиси. Грузинские молодые и немолодые лирики (и все до единого уже с громкими именами!) со стопками подстрочников буквально выстроились в очередь к тридцатипятилетнему Межирову. Ажиотаж был вызван неслыханно высоким рейтингом этого московского поэта и переводчика. Мы познакомились с ним благодаря Эммануилу Фейгину. Александр Петрович сразу же поразил меня неистребимым ужасом в глазах, который тщетно пытался скрыть за вежливой улыбкой. Или мне это показалось? Как бы там ни было, но он сам признавался в том, что его постоянно гнетёт: “Я построил дом, но не из бревён, а из карт, краплённых поперёк”. Рисковое это занятие – охота за звуком “собственным, незаёмным”. Того и гляди сорвёшься на мотоцикле (если бы мотоцикле метафоры!) с цирковой стены. Его ужас заражал и меня, когда я слушал слова, полные откровенья: “Он стар, наш номер цирковой, его давно придумал кто-то, – но это всё-таки работа, хотя и книзу головой”. Несколько раз мы собирались втроём за бутылкой доброго кахетинского: Межиров с Александром Цыбулевским и я. Он любил Шуру и боялся за него, как за самого себя. Однажды, когда мы попрощались с Шурой, он, глядя ему вослед, прочитал наизусть его строфу из “Маргариты”: Перед смертью утешить вас нечем, Всё же прав был какой-то индус: Снова в облике мы человечьем Будем лихо закручивать ус… И сказал мне угрюмо, что это самообман. Ничего не будет “снова”. Ничего. А что касается предчувствий Цыбулевского, то они его удручали. Читая межировские строчки: “И каменный путь грохотал под копытом, и билось вино в бурдюке недопитом”, я отчего-то был уверен, что это – о нём, о Шуре, у которого всё осталось – “недо”, “недо”, “недо”… И всё-таки Межиров ошибался. Всё будет снова. И, словно бы споря с ним, я написал о Цыбулевском, поражённый его самой горькой строкой (“И странно слово вдруг: исход”): “…Ты любил в духане пить вино. Так зачем же засиделся в келье? Там погасли свечи. Там темно. Чем тебя прельстило подземелье? Этот факел не тебе несут. Надо поскорей перекреститься. Ты у фресок – там, где “Страшный суд”, где Тамара всё ещё царица”. Межиров знал Грузию сокровенно, глубинно – потому, скорее всего, что был большим поэтом. Прошедший сквозь великую войну, Я знаю цену этому вину Не как историк, а как винодел, Который прожил в Грузии века, На Тамерлана с яростью глядел, А в этот день помолодел слегка. Пожалуй, впервые в те благословенные дни, общаясь с Межировым, я понял, как должна поэтическая строка выискивать в вечернем блеске трамвайной дуги кристаллик соли на спине битюга. Меня, юного выкормыша окружной газеты, он ставил в тупик. Я специально брал командировку и ехал в Чиатуру, чтобы отыскать то место, где, по его словам, “молния с неба упала, чёрный тополь спалила дотла и под чёрной землёй перевала глубоко свой огонь погребла”. Это всё находилось рядом с горняцким посёлком, с вагонеткой, везущей обыденный гроб, будто уголь из лавы. Я не испытывал никакой грусти, наоборот – ликовал, потому что верил стихам: “Я сказал: это место на взгорье отыщу и, припомнив грозу, эту молнию вырою вскоре и в подарок тебе привезу”. А спустя десятилетия всё это прорвалось у меня в “Трёх сонетах”. Вот первый из них: Тепло из дома ветер выдувал. Была Солянка заполночь метельной. Спросили Вы: “Погреемся в котельной?” Я спать хотел, но мы пошли в подвал. Ведь я в командировке двухнедельной Был в Чиатурах, лез на перевал, Который в недрах молнию скрывал Из Вашей строчки. Ну а здесь в нательной Рубахе местный встретил нас Сократ. Тряс Вашу руку. Был безмерно рад И “оджалеши” и “киндзмараули”. Вы были с ним, ей-Богу, наравне – И под конец не наливали мне, А может, на меня рукой махнули. Через межировскую поэзию у меня в пятидесятых-шестидесятых годах произошло второе, более интимное и глубокое открытие Тбилиси, настолько органично впитала она в себя “военный госпиталь в Навтлуге, трамвайных рельс крутые дуги”, “подъём Чавчавадзе сквозь крики: бади-буди, мацони, тута…”, набитый битком автобус, который “в нос шибает и дышит в затылок чахохбили, чачой, чесноком”, “луны бутылочное дно над городом Галактиона”, “горы около зари”, падающий вниз, к Куре, Театральный переулок, “Верийский спуск в снегу”, кафе “Метро”, заставляющее признать, что “свет фонаря в любом убогом храме куда светлей, чем свет из этих стен”. Сколько раз я проходил мимо вот этой старинной церкви, но и подумать не мог, что она перестанет быть безымянной после встречи с Межировым и откроется самым потрясающим образом: Когда над храмом с грохотом теснится И зажигает молнии гроза, Я вижу не иконы, а бойницы И амбразуры, а не образа. Эти строки меня чем-то смущали, но я тогда не понимал – чем. А поняв – не перестал ими восхищаться. Однажды Иосиф Нонешвили позвонил мне в редакцию и сообщил, что Межиров написал обо мне стихотворение, которое напечатано в “Советском спорте”. – При чём здесь “Советский спорт”?! – удивился он. Поначалу я тоже удивился. Семилетняя дочка Межирова, Зоя, следующим летом в однокомнатной квартире на Солянке наивно спросила меня: – Вы чемпион мира по шахматам? Может быть, Межиров этим стихотворением хотел сказать о себе самом?! “Он исходит всегда из того, что свобода превыше всего…” А что, пожалуй, что так. Мне кажется, Межиров стал моим другом именно потому, что увидел во мне игрока, который “идёт не по воле ферзя, а по воле свободного поля”. Эта “позиция”, не признающая ничьей и страдающая вечно от цейтнота, помогает расшифровать в творчестве поэта многое. Куда уж откровеннее: Вскоре сделался он игроком настоящим, а это Многократно усиленный образ поэта, Потому что великий игрок – это вовсе не тот, Кто умеет шары заколачивать в лузы, А мудрец и провидец, почти что пророк, С ним, во время удара, беседуют музы. В то же время имелись в наличии и стихотворцы совсем иного, противоположного склада – мастера, располагавшие для выступлений перед массами дворцами культуры и дворцами спорта, охранявшиеся милицией, придумавшие, “не жалея времени и сил”, “множество затейливых игрушек – Буратин, Матрёшек и Петрушек”, да к тому же вдунувшие души в их “бунтующую плоть”. Только ведь не зря они, идолы и кумиры на час, “выщербили пошлостью свой нож”. Они, как предполагалось тогда и как очевидно сейчас, проиграли. По сути, у них не было болельщиков, поскольку у них не было боли. Иное дело – подлинный игрок: “Когда мне ломали шею, о рёбрах не говоря, мне больно – ему больнее, о, как я его жалею, сочувствую я ему, великому Хемингуэю, болельщику моему”. Межиров гордился своим собственным бильярдным столом на даче в Переделкине (“шесть луз, резина и сукно, три аспидных доски”): “На нём играли мастера Митасов и Ашот, Эмиль закручивал шара, который не идёт. Был этот стол и плох и мал, название одно, но дух Березина слетал на старое сукно”. Олег Хлебников попросил меня написать для “Новой газеты” об этой домашней “академии”, и я жалею, что не откликнулся на его просьбу… А теперь представьте себе идола, который сказал бы о себе следующим образом: “Как будто так легко – от двух бортов по фишкам, а я то широко беру, то узко слишком”. Мы с ним никак не могли перейти на “ты”. Что-то мешало. Он настаивал, я отказывался. Кто виноват – не знаю. Потом он пояснил: – Всё просто. Я, Володя, старше вас на Отечественную войну. Кстати, чуть позже это стало стихотворением. Не одному мне не удавалось быть с ним на более короткой ноге. Многие другие тоже терпели фиаско. Александр Ревич, его ровесник, так и остался с ним на “вы”. Сколько раз доказывалось, что межировская поэзия, понюхавшая на войне пороху, но однажды позвавшая “коммунистов вперёд”, лишена религиозного чувства, не дышит истинной верой. Кое-кто доказывал это даже “в отработанной стойке погромной”. Если б так, откуда бы у него взялись горькие мотивы покаяния, столь характерные для него: “А дальше… Боже! Стыд и срам…”, “Страшного мне не избегнуть Суда, – и прегрешений моих вереница вытянется беспредельно, когда время прервётся, пространство продлится”. Самоцели здесь нет и быть не может никакой. “Неужели Божья воля – то, чему названья нет!” Это – “как одна молитва чудная”. Впрочем, художник и тут остаётся художником: “Вопрос пробуждения совести заслуживает романа. Но я ни романа, ни повести об этом не напишу”. Совесть – как “рыжее пламя во ржи”, которое “за конницей гонится”. Межиров, судя по всему, испытал превеликое счастье, когда перевёл с грузинского (а именно Ираклия Абашидзе) стихи с голосом Руставели, голосом, раздающимся то у стен Крестовского монастыря, то в самом этом монастыре, то в оливковом иерусалимском саду, то у колокольни, то в белой келье, то у Катамона, то в глухой пустыне. И не мог отказать себе в праве включать этот плач как свой собственный в последние книги. Раскаяние далось нелегко, но оно неизбежно для Межирова и очевидно наподобие “меча, воткнутого в скалу по рукоять”. Это раскаянье хлынуло мощнее родниковой струи: “Зачем богоотступничество мне в вину вменяют и грозят расплатой, когда на свете о моей вине Ты ведаешь один, мой Бог распятый?” Оппоненты Межирова высокомерны и шовинистичны в оценке русского поэта, нашедшего покаянные строки, кои им и не снились: “Я пришёл к Тебе с мольбой всех времён и поколений. Пантократор! Пред Тобой опускаюсь на колени”. Как-то, ещё в молодости, Межиров в запале воскликнул: “О, какими были б мы счастливыми, если б нас убило на войне”. Слава Тебе Господи, что судьба пощадила поэта и он дал нам возможность увидеть увиденное им самим. А это, честное слово, не так уж мало. Нередко обращаюсь я к “Проводам”, к тем временам, когда “обритую наспех пехоту” повезли далеко-далёко, когда пареньку, совсем мальчишке, не хочется пить сгущёнку. “И он изо всех своих сил, нехитрую вспомнив науку, на банку ножом надавил, из тамбура высунул руку. И вьётся, густа и сладка, вдоль пульманов пыльных состава тягучая нить молока, последняя в жизни забава”. Многого в нашей поэзии не появилось бы, если б не межировская лирика шестидесятых и семидесятых, если б не его “Календарь”. С ним будем мы “умирать от воспоминаний”. А вспомнить есть что – и Невскую Дубровку, и остаток взвода, и охтенский мост, и саму Охту, разбитую и деревянную, и девушек-сестёр (они – для того, чтобы “отдирать окопную коросту, женскою пленяться красотой”), и пометки на перекидном календаре (“Очерк сердца зыбок и неловок, а стрела перната и мила – даты первых переформировок, первых постояльцев имена”). Вот, дорогие мои, “какая музыка была, какая музыка играла”! Эта музыка, разумеется, нисколько не волнует признающих лишь одну стойку – ну да, “погромную”, забывающих, что два народа-изгоя, “единые и в святости, и в свинстве, не могут друг без друга там и тут и в непреодолимом двуединстве друг друга прославляют и клянут”. Межиров не боится, что его упрекнут за строки, пришедшие к нам из-за океана, из Штатов, где он сейчас вынужден жить: “Не вечно достоевским бесам пророчествовать и пылать. Хвала и слава мракобесам, охотнорядцам исполать. Всё на места свои поставлю, перед законом повинюсь, черту оседлости прославлю, процентной норме поклонюсь. В них основанье и основа существованья и труда. Под их защитой Зускин снова убит не будет никогда”. Но чтобы всё это было яснее и не вызвало кривотолков, необходима строфа из знаменитого стихотворения “Москва. Мороз. Россия…”: “Был русским плоть от плоти по мыслям, по словам, – когда стихи прочтёте, понятней станет вам”. Межиров ежедневен и ежечасен в русской словесности. Снова будут грозы, будет снег, Снова будут слёзы, будет смех Всюду – от Десны и до Десны, Вечно – от весны и до весны. Дай-то Бог, дай-то Бог.
“И ТОЛЬКО НА ВОСЬМОМ ЗАГОВОРИЛ…” Не так уж робок и напуган, Но в полном здравии ума Себя очерчиваю кругом, Как злополучный Брут Хома… Александр Ревич Не обойтись мне без этого эпиграфа. Как ни защищайся, – “напрасный труд, и всё смелей кривые вылезают рожи из всех отдушин и щелей, как Вий, глядят с телеэкрана, о правдолюбии орут…” Пусть так, пусть лезут, наказал он мне в “Дарованных днях”, – всё равно надо “читать, не поднимая взгляда, свои молитвы до зари”. А иначе проиграешь по всем швам. “Кто не вернётся с победою, тот не узнает о многом. Ведая или не ведая, все мы ходили под Богом…” Это сегодняшний Александр Ревич, которого я люблю уже много лет и дружеское, родственное расположение которого мне необходимо, как вчерашний и завтрашний дни. С ним часто вступают в перебранку, потому что он не приемлет многое из Николая Гумилёва и Осипа Мандельштама. А он стоит на своём. Ему необходима планка на головокружительной высоте. Что ж тут спорить. Это его право. Я радуюсь по-братски: да, им одержана победа. Бог обретён. “Стало видно далёко-далёко, до конца и до края земли”. У Ревича есть нечто общее с сочинителем, которому приписывает свой исполинский труд чудом уцелевший во время Варфоломеевской ночи гигант эпохи Возрождения Теодор Агриппа д’Обинье, обращаясь к читателю созданных им “Трагических поэм”. Александр Михайлович, как и этот выдуманный гением сочинитель, был очевидцем невероятных событий и чудовищных преступлений, чью суть пытались и пытаются исказить, изуродовать и заглушить “безграмотные зубоскалы”, “плюющие на веру” обманщики. Публикуя “сии писания” и призывая сочинителя на Суд Божий, Агриппа сам, по своей инициативе, считает необходимым разобраться в подробностях его жизни, в том числе таких, как служба в кавалерии, и участие в тяжёлых баталиях (“стоя насмерть”), и ранения… Ну а как иначе, скажите на милость, постичь явление художника слова? Или тут бывают мелочи?! В своих сонетах, предваряющих текст “Трагических поэм”, Ревич, русский поэт, “слагатель рифм, беспечный дуралей” (поскольку, заметим, Dei gratia, не в силах противостоять напору собственного лирико-бытийного опыта, добытого в самом что ни на есть пекле “меж будущим и прошлым”, где “половодья размывают даты и грани расплываются веков”, где “веселья коротки, длинны печали” и где “спадают с глаз последние покровы”. Мы сошлись с ним, согласившись ещё в семидесятых, что в этом пекле были покалечены в духовном и творческом плане десятки, сотни писателей. Ревич читал наизусть раннего Тихонова. Каков?! Ведь прекрасен! И что произошло впоследствии? Ревич жалел о потерянных годах: как художник он испытывал недостаток кислорода. В “Поэме дороги” он объяснит, где тут собака зарыта: “В ночь, когда нас бросили в прорыв, был я ранен, но остался жив, чтоб сказать хотя бы о немногом. Я лежал на четырёх ветрах, молодой, безбожный вертопрах, почему-то бережённый Богом”. “Почему-то…” А почему, собственно? В 1960-м Александр Ревич попытался дать ответ на этот вопрос: “Воет волк от голода и стужи, голосит по-волчьи на луну, тянет ноту он одну и ту же, как тянули предки в старину. Затоскует по лесам в неволе – по-медвежьи заревёт медведь… Человек… Он не ревёт, не воет – он однажды выучился петь”. С чего же началась эта музыка? В старом парке “Желязова Воля”, у дома Шопена, Ревич догадался, что его “звонкой каплей апреля раннего в давнем детстве навеки ранило”. А позже уточнил: “Возможно, выпал редкий случай”. В сорочке появился он на свет или без оной – неизвестно, но достоверно то, что младенца Алика в легендарном Ростове-на-Дону из родильного дома привезли в дом на Никольской улице, где не смолкали денно и нощно кабинетный рояль “Беккер” и концертное пианино “Рейниш”. Это было, “когда пешком ходил под стол, когда отец мой безработный, служивший в белых, на беду, карябал на бумаге нотной под Баха фуги… <...> и на простуженном рояле зачем-то что-то подбирал”. И, “что-то подбирая”, отец, Михаил Павлович, бывший младший офицерский чин, пытался вложить в эти фуги все свои беды: отступление Добровольческой армии под натиском будённовцев, скитания по пустырям, по глухим просёлкам, мимо слободок и станиц, “в тряпье таком, как на самом жалком нищеброде, словно выбрался из-под земли, чёрный весь от копоти и пыли”, ночёвки в стогах и оврагах. Бывали и такие мгновенья, когда малец “явно презирал отца за то, что в праздничной колонне не шёл он с флагом впереди, с кровавым бантом на груди и в проходящем эскадроне не восседал на скакуне,.. что он живёт, как посторонний…” Пятилетнему Алику хотелось стать милиционером, и первые стихотворные строки он написал печатными буквами именно об этом: “На мне фуражка с красным козырьком, а в руке винтовка стальная. Я охраняю свой дом от жуликов и от Бабая”. Написал, может быть, в тот день, когда заплакал, увидя портрет длинноволосого Блока. Ему показалось, что это ведьма. Прочитав стишок, отец наверняка усмехнулся: ведь до переезда в Ростов, до гражданской войны, он мечтал стать композитором и, нередко голодая, учился вместе с Игорем Стравинским и Михаилом Гнесиным в Петербургской консерватории по классу композиции у Николая Римского-Корсакова, потом – по классу виолончели у Александра Вержбиловича. Он руководил церковным хором, обладал баритоном в четыре октавы. Но музыкантом не стал. Резко возражали родители. Поступил в технологический институт там же, в Петербурге. Не доучился. Ушёл. Свою жизнь он считал угробленной, бездарной… “Откуда мог я знать, пострел, как маялся отец без дел, с какою болью, побеждённый, на победителей смотрел, что в нём душа перегорела, когда с повинной головой пришёл из дальних мест домой, как чудом избежал расстрела…” К Михаилу Павловичу захаживал “наш сосед, полковник старый, Олег Петрович Лозовой… Он тоже “привыкал к безделью, в застенке избежав свинца. Он к нам ходил с виолончелью и брал уроки у отца”. К ним присоединялась мама, врач по профессии и большая любительница помузицировать. Музыка… музыка… музыка… А ещё брат отца, Матвей, он же Матео (артистический псевдоним), тоже баритон, профессиональный оперный певец. И ещё сестра их, Елена – чудный голос, итальянская школа. И, конечно же, ещё их двоюродный брат, Вениамин Сангурский, бас, и какой бас, знаменитость, его выступления вместе с Фёдором Шаляпиным в Казани и Тифлисе, оперные сцены Парижа и Милана. Ну… и для полноты картины, само собой, мощные аккорды южного говора (это же Ростов!), переплёски-выплески донских казачьх песен, мелодии украинской мовы – веселящего и жалящего “перця вiд щiрого серця”, жалоб и надежд армянского дудука…
Девочки и мальчики, хихикающие над аистами, приносящими новорожденных, вы и вправду верите, что музыка, о которой мы толкуем, действительно в торжественной обстановке вручается добрейшей Музой тем, кого она выбрала и полюбила, вручается, по свидетельству великих наших классиков, в виде семиствольной цевницы, оживлённой божественным дыханьем? Джазовый трубач и певец Луи Армстронг не раз говорил, что самую лучшую музыку он слушал в Сторивилле, а Сторивилль – это нужда, беспробудное пьянство, грязь, вонь, крысы, проституция, наркомания… У нас, в России, была иная история, но грязи, свинства было ничуть не меньше. Малолетнего героя “Поэмы о доме” потрясали трагедии его города, “куда бежали всей деревней от голода и прочих зол”. Несколько человек из семьи погибли в сталинских застенках. Родственница матери, Мария Маркус, была женой С.М. Кирова – за это и поплатилась А что за монстр сапожник дядя Ваня, который избивал нянечку Татьяну (речь о нём – впереди)!.. Мальцу (взять хотя бы “Первомайскую поэму”) приходилось с ужасом наблюдать то, о чём в армстронговском Сторивилле и слыхом не слыхивали. Ревич абсолютно искренен, утверждая, что лучшим поэтом, пришедшим с войны, был Александр Межиров. Но школа и у того, и у другого была, в принципе, одна. 10 июня 1941 года девятнадцатилетний Саша Ревич окончил в Орджоникидзе пограничное училище. С двумя кубарями он прибыл в Одессу, где получил распоряжение явиться в понедельник за предписанием. Война разразилась на день раньше – в воскресенье. И… пошло-поехало. 9-й кавалерийский корпус. Отступление (ау, Михаил Павлович, привет от сына!), бои, опять отступление. Река Прут. На станции Березовка – форменный “котёл”. Бредовый приказ кавалеристам: атаковать немецкие танки, идти на прорыв. Попал в плен. У него спросили: “А почему вы не застрелились?..” Из особого отдела увезли в Каменск, за колючую проволоку. Три месяца отсидки, месяц – на формирование штрафбата. Скоротечный бой. Ранение. Приказ: “Возвращайся в строй, лейтенант”. А там уж и Сталинградский фронт… После войны – исторический факультет университета, Литературный институт, наставники – Василий Казин и Павел Антокольский (которого вышибли в ходе борьбы с космополитизмом). Оставшись без творческого руководителя, Ревич посещал занятия Владимира Луговского, уже не очень “хорошего”, на грани ухода из института. Выпускали молодого поэта Семён Кирсанов и Ярослав Смеляков. Было это в пятьдесят первом. Начались будни профессионального литератора. Упор, чтобы прокормиться и найти себя, был сделан на переводы (подчас и того, что именовалось советской “мистификацией”). Мудрый Сергей Шервинский посоветовал: – Не станете же вы подражать русским поэтам, эпигонство это; зато у иностранных учиться можно и нужно. Собственные стихи ждали своего часа, накапливались. Выход первой книги, по причинам объективным и субъективным, задерживался почти на двадцать лет. Но поэтическая личность Ревича складывалась своим чередом, создавая собственную систему координат. Менялись пристрастия. Не с первой (и даже не со второй) книги удалось Ревичу утвердиться “в звуке, в свете, в печали, в том, что волей Творца было Словом вначале и не знает конца”. В отличие от множества “слагателей рифм” он не прекращал поиски новизны, но опирался нередко прежде всего на стиховую структуру саму по себе, нарочито усложнённую метрику, интонационные перепады, которые должны были, по его убеждению, поражать и впечатлять читателя. Вместо того чтобы прыгать из окна за вечно ускользающим образом (вроде того полоумного, сиганувшего на крыльях с храмового купола), он бежал с самого верхнего этажа по лестничным пролётам, уверенный, что двери подъезда никогда не закрываются на замок. И продолжал бы ломиться в открытую дверь, если б его собственный мир однажды, “как невынутый осколок”, не “шевельнулся под ребром”. О триумфальном шествии победителя речь, конечно, не идёт: в те поры никто и не помышлял ни о Перестройке, ни о Гласности, которым, вопреки отжившей идеологии, будет суждено наконец-то позволить поэзии религии, по выражению К.Н. Леонтьева (1887, Оптина Пустынь), вытравить из человека с широко и разносторонне развитым воображением поэзию изящной безнравственности.. Ревич вдруг совершенно по-новому посмотрел на книгу, которую ему предстояло написать: “Здесь нет кульминаций, завязок, развязок, как это бывает в искусных рассказах, здесь только смятенье, здесь только душа”. У него всё закомернее появлялись строки и строфы, которые запоминались, поражали. “Чаще путь не доброволен, путь – приказ и приговор, путь минированным полем с проволокою в упор”; “Вот вокзалы, где надо прощаться, вот сады без плодов и без крон, вот квартиры, куда не стучаться, вот застолья в конце похорон”; “Я не могу свернуть на давний наш просёлок, на этот взякий путь среди знакомых ёлок, где слева был закат и чёрный омут – справа, где всё гремит раскат проезжего состава…”; “На полузвуке голос горна умолк. Сигнал оборвала пробившая горнисту горло степного всадника стрела…” Ревич всё дальше и дальше уходил, убегал от канонов. Его Орфей ничем не походил на общепринятый образ сладкоголосого певца: “Орфей был пьян. Они пил шестые сутки, как истинный фракиец и поэт. И с визгом разбегались проститутки, когда он бил фужеры о паркет, когда, оркестр кабацкий заглушая, истошно он вопил бессмертный бред”. Поэт не только умолял: “Помилуй, нас, Господи Боже!”, но и уточнял: “Дай глупцам Своё терпенье Божье, дай увидеть истину слепым”. Оказывается, и во всеоружии поэтического мастерства, которое само по себе мало что значит, можно прозреть, принять в себя движение как музыку пространства. “Тело ветра” не ускользало от него и прежде, но сейчас ему открылся закон, по которому это тело изображается при важнейшем, понятном далеко не каждому условии: “очертания видим только в примятой траве”. Лирика Ревича прошла свою Перестройку, преодолела даже намёк на инерцию слова. Он стал достигать цели, тратя на это минимум строк, “где в каждом звуке, в каждом ладе – душа…”, стал зависеть от прозы жизни. “Не думать никогда о чистогане, не дожидаться спелых виноградин. Не плачь, мой друг, ведь мы с тобой – цыгане, есть конь у нас, и тот чужой – украден”. И верно, всё берётся у быстротекущего мига, берётся за-ради сотворения своих пространств, с пониманием того, что значит соотношение поэтической дерзости, с одной стороны, а с другой – “костей смиренных” и “сердца сокрушенного и смиренного”. Уже и “Тарханская элегия”, и особенно “Поэма позднего прощания” свидетельствовали о намечавшихся коренных сдвигах в поэтике Александра Ревича, где затеплились “огни церковных свечей” во имя того, чтобы и в лирике, и в поэмах, как говаривал Виссарион Белинский, выражалось главное в них – “горестная участь личности”, которая воплощается через совместное движение времени и пространства. Ревич не хотел “о войне”, он хотел “о весне”, но он нашёл в себе мужество, чтобы вернуться в молодость. И тогда, особенно в поэме “20 июня 1941-го” и “Поэме дороги”, перед читателем предстал настоящий Ревич со своей музыкой – музыкой пространства. У Межирова была “тягучая нить молока”, тянувшаяся “вдоль пульманов пыльных состава”, у Ревича таких “забав” не было. В окно вагона ветер резкий влетал, вздувая занавески, равнина, оттеснив леса, вращалась вроде колеса, звенели ложечки в стаканах, и слышались соседей пьяных из коридоров голоса, стучали невпопад колёса, им подпевал хриплоголосо нестройный хор о том, как “спят курганы тёмные”, а следом – “шумел камыш”, и с этим бредом – опять колёса невпопад, мелькали путевые будки, платформы, ветки чахлых крон, и пыльный харьковский перрон проплыл, как дым от самокрутки, и в будущее мчал вагон, оставив позади побудки, подъёмы, плац и полигон… В этом крутом жизневороте – окончательно сформировавшаяся способность изображать движение, без которого не бывает крупных (естественно, не по количеству строк) полотен. Я произвольно, проявив некое насилие, прервал цитату, хотя не имел никакого права останавливаться: ведь в самом тексте нет торможений, и всё здесь, связанное в тугой узел человеческого бытия, стремглав несётся до последней точки, которой не избежать и лейтенантику, и “девушке чужой, курносому русому ангелку”, и пресловутой миргородской луже, ослепительно блеснувшей на пути следования поезда. Да и что тут вдаваться в подробности, когда с пушкинских ещё времён российская поэма держится на “тяжёло-звонком скаканье по потрясённой мостовой”. Без него, без скаканья этого, действие фатально обескровливается, в результате чего получается нудное, растянутое беспредельно стихотворение. “Скрипящий ремнями напоказ” юный лейтенант, ещё не попав на фронт, уже врывается (именно врывается, именно на полном ходу) в трагедию народа, в трагедию страны. Мелькали встречные вагоны, телятники и пульмана, порою дух скотопрогонный врывался с ветром из окна, порой навстречу шли вагоны, такие же, как для скота, но проплывал квадрат оконный, где за решёткой темнота и лиц свеченье восковое, потом внезапно дым стеной и на площадке тормозной фуражки и штыки конвоя, вслед едкий дым и зыбкий зной… Музыка движения такова, что читатель не успевает среагировать на звуковые чудеса последних (в цитате) четырёх строк (хотя… как не восторгаться тут: “…едкий дым и зыбкий зной”!). Казалось бы, всё неостановимо (“Плыл мир, скрипели тормоза”), но поэзия как раз и пользуется этой скоростью, чтобы на контрасте зафиксировать самое основное и передать его “по цепочке”: “Конечно, в памяти короткой – вагон с тюремною решёткой, штык на площадке тормозной остались где-то за пределом, лишь на мгновенье между делом за маревом мелькнули белым, за душною голубизной…” Это очень напоминает “странный отпечаток неизбежной судьбы”, о котором говорит Печорин в лермонтовском “Фаталисте”. Разминулись два эшелона: один на войну, а другой – с зэками и их конвоирами. “Странный отпечаток” – и на том, как в “Первомайской поэме” одновременно двигаются в разные стороны праздничные колонны с красными знамёнами и ликующей медью и совсем иная, скорбная колонна: …И помню, замер я от звона, стального лязга кандалов. Кому взбрело на ум такое: на праздник, Господи прости, под сотнею штыков конвоя колонну узников вести?.. Брели сермяжные халаты под звон цепей, под лязг оков, ступали серые солдаты друг с другом связанных полков, как по Владимирке когда-то в цепях на каторгу брели рабы сермяжного халата, сыны моей родной земли. Отзвуки этого кошмара – даже в “Поэме о русском Париже” (“тогда ещё шёл век двадцатый”), в трактире, “Где две гитары на эстраде и “две гитары за стеной””, где “так на звук ложилось слово, что рядом, путаясь в словах, вдруг стали подпевать французы и все, пришедшие в кабак”. Вот уж печаль; (как не вспомнить: “Есть конь у нас, и тот чужой – украден”). “Под гитары пели внуки изгнанников страны моей”. В данном случае не только смещаются пространства, но и пересекаются времена. Вот чем оборачивается “вся эта скорость”. Поэт и рад бы, как некогда, передвигаться по лону вод в чисто умозрительном ковчеге, да не выходит уже, – другие горизонты у него: “Мог бы я уйти за тот предел, слиться с бором, с лиственною кущей, но рукой зачем-то прикипел к поручню тюрьмы своей, бегущей в неизвестность…” Вернёмся, однако, к нашему лейтенанту, к его бедам Были скитания (“Поэма дороги”). Как когда-то у отца, который, скрываясь от будённовцев, шёл с Кубани “с посохом корявым и мешком от станицы – по степи – к станице”. До чего же болезненно это движение! Но всё равно безостановочно. Ещё более скоротечный и трагический характер приобретает оно, когда разговор заходит о сыне. Трудно не согласиться, что “мир широк, да некуда уйти от себя, от времени и дома”. От дома – в смысле от России, конечно. “Двадцать с лишним лет спустя из плена” уже сын брёл “с посохом и торбою”, “спал в омётах, зарывался в сено”. Был трибунал. Заседал в нём, может быть, наш знакомый – дядя Ваня (из “Поэмы о доме”), истязатель нянечки, деревенской женщины Татьяны, любивший надевать по праздникам “шлем со звездой, бекешу с бантом”, спешить навстречу “оркестрам, флагам и речам”. Нетрудно представить, как он выкрикивает: “Сдался в плен и сдал своих солдат! …К высшей мере!.. заменить!.. штрафбат!..” Теперь-то, думается, в самый раз посмотреть на этого дядю Ваню глазами мальчика. …однажды в полдень жаркий, в чьём солнце плавился квартал, при выходе из нашей арки я дядю Ваню увидал. Он шёл босой, в рубахе рваной, с подбитым глазом, в бороде, передо мной был взгляд стеклянный, каких не видел я нигде. Он шёл, меня не узнавая, он шёл, не видя ничего, и уходила мостовая из-под нетрезвых ног его. Никакой статики! Это движение сродни достоверности, подкрепляемой глаголами “увидал”, “видел”, “видя”, всюду звучащими песнями тех лет: “Как машинист машиной правит, а кочегар баланду травит”, “На бой кровавый…”, “Мы в бой пойдём…”, “Марш, марш, вперёд…”, “Катюша”, “Закурим по одной…”, не песнями даже, а их обрывками, похожими на клочья паровозного дыма, которые рвутся встречным ветром. Уходящая из-под ног мостовая подчёркивает весь ужас происходящего: “Я снова мальчик, снова трушу, хотя всё знаю наперёд, когда Россия прямо в душу в дымину пьяная бредёт”… Ну что ж, штрафбат, так штрафбат. Не в расход всё-таки. Казалось бы, скапустится в этом месте стих и утратит сумасшедшую скорость. Ничего подобного! Никаких остановок! События, требующие особых изобразительных средств, мелькают, мелькают, мелькают, не становясь от этого мельче, – напротив, центрифуга действия усиливает перегрузку. Может, ещё вывезет кривая? Жизнь идёт., размерен стук колёс, мчит состав, дай Бог, не под откос, мчат вагоны, стук не прерывая, ничего, что за стеной конвой, что вокруг штыки заграготряда, слава Богу, кончено с тюрьмой, всем паёк положен фронтовой, живы все, чего ещё нам надо? И в этом селевом потоке “молодой безбожный вертопрах”, воспринимающий за своей спиною конвойных как нечто само собой разумеющееся, счастлив оттого, что на “исходный выведут рубеж, а потом – наперевес винтовки и – на колья проволочных мреж без артиллерийской подготовки”! Зачем же Верховному Главнокомандующему ради вот таких нужно было тратить снаряды? Это уже не “вертопрах”, а поэт спрашивает, оглядываясь назад: “Чем вся эта скорость обернётся?” Движение подчинилось перу Александра Ревича после того, как им была уловлена музыкальная, бетховенская и моцартовская одновременно, сущность хода истории и он ощутил нашу, несмотря на грехи наши, близость Сыну человеческому именно “в скорбях и боли”: “Мы все от плоти плоть, от кости кость и стискиваем зубы поневоле, представив, как вбивают первый гвоздь”. От многого, что навязывалось прежними правилами хорошего литературного тона, пришлось ему отречься: “Когда нет жалости, какие там стихи! Устал я, милые, от всяческих ухваток, от силы напоказ, от прочей шелухи, от бега взапуски…” Будучи истинным художником, Ревич признаётся в “Речи”: “Я смыслы образов и звуков множил, так семь десятков лет на свете прожил и только на восьмом заговорил”. Вот она, важная, решающая веха в судьбе поэта, вот отчего “молодой безбожный вертопрах”, “почему-то бережённый Богом”, уцелел на войне. Музыка пространств переполняет все без исключения последние его стихи. А какова плотность, какова художественная насыщенность его поэм, – притом, что в каждой не более 130-140 строк! Тем не менее на столь крохотном плацдарме свободно умещаются город детства с его площадями, улицами и переулками, подвал, в котором орудовал сапожник, вбивая ловко гвозди в каблуки, “игрушки резал мне из чурки, смешные разные фигурки”, здесь же – гарцующий по брусчатке военный оркестр, и небо с аэропланами, и дворы с арками, и поля сражений, и чёрная птица “среди химер на Notre-Dame”, и южный базар (“… гляди во все глаза, тут столько и питья, и корма, а краски! – плахты и платки, дородных статей украинки, бутылки, сало, яйца, кринки, плодами полные лотки и горы красных помидоров. Тут к месту – лужа, в луже – боров. Ну чем не Миргород тебе?”, а ещё слободки и станицы Кубани, и “кочки да хвощи”, и туманы, и ветра, и дожди, и “мимолётные рощи”, и болотца, и кукурузные заросли, и чертополох… Как раз то, что, ошеломительно проносясь мимо, не даёт ни единому лишнему слову встать поперёк, тормознуть сюжет. Это безусловное, нуждающееся в глубоком, непредвзятом анализе достижение в нашей литературе. А вот по достоинству оценить такое достижение поэтический цех не торопится. У него, у цеха, свои соображения имеются. Ориентиры утеряны и сплошь аномальные зоны. Все сёстры давным-давно получили по серьгам. Кто смел, тот и съел. А кто опоздал – не для тебя этот бал. Особенности эпохи в расчёт не берутся. Межиров когда-то съязвил: “До тридцати поэтом быть почётно, и страх кромешный – после тридцати”. Но не так-то просто делать вид, что Ревич, если не касаться его завоеваний в области поэтического перевода, – явление заурядное, рядовое. Следовало найти компромисс, и тот был очевидным: Ревича выдвинули на соискание Государственной премии как переводчика “Трагических поэм” Агриппы д’Обинье. И за то спасибо. Интервью, телевидение, радио, фото в журналах и газетах. Интернет в стороне не остался. Но Ревич и здесь выделился: да, он жил на деньги от переводов, и всё же никогда не разделял мнение большинства своих собратьев, которые считали, что перевод – это донорство. Он получал, чтобы тратить, и тратил, чтобы получать. Сергей Шервинский заметил в нём предрасположенность к непрерывной учёбе у иностранных поэтов первого ряда. И те действительно повлияли на творческое развитие Ревича. Среди них – Константы Ильдефонс Галчинский. Судьба подарила ему дружбу с вдовой поэта. От Галчинского в немалой степени пошли раскованность, игра со словом. Ревич по-царски отблагодарил его. Переводы, сработанные им, необыкновенно точны, они передают всю искромётность, озорство и мудрость польского классика. Без всякого преувеличения это жемчужины, это расширение границ переводческого искусства, которым так богата русская поэзия. Очень помог в становлении Александра Ревича и Поль Верлен, из западных поэтов наиболее близкий Борису Пастернаку (название книги “Сестра моя – жизнь” – по сути, верленовская строка: “La vie laide, encore c’est ma soeur”). Видимо, как считает Ревич, “моё внутреннее развитие, богостроительство совпало с интересом к его книге “Мудрость””. Он её всю перевёл. Аркадий Штейнберг по этому поводу сказал: мол, я догадывался, что ты способный, но не думал, что такой упрямец. Верлен научил Ревича видеть сквозь мир, научил импрессионистической атмосфере, “непреднамеренности”. Ну а Агриппа д’Обинье был с давних пор на прицеле у Ревича. В России Агриппу полностью не переводили, хотя это единственный поэт уровня Данте. У Шекспира, по мнению Ревича, нет такого напора, и Мильтон следовал за Агриппой, но писал лишь мистическую сторону бытия, то есть расписывал Священное Писание; у Агриппы это только одна ниточка его эпоса. Ревича донимала страсть – показать, как Агриппа пишет ветхозаветное и христианское Священное Предание, переплетая повествование с современной ему жизнью, по-дантовски помещая своих врагов в ад, расправляясь с религиозными и политическими врагами. Было дело, у Ревича спросили, зачем он взялся за перевод этого “тяжелейшего кирпича”, на что он ответил: “Обычно переводчик вынужден дотягивать плохого поэта до своего уровня, вливать в него свою кровь и терять на этом. Когда я перевожу Агриппу, я должен дотянуться до его уровня. А это учение”. Учиться Ревич не переставал никогда. Работая над Агриппой, замечал, как меняются его характер и почерк и выковывается упрямство. И сказал: – Стойкостью я, пожалуй, обделён не был, недаром с малыми потерями прошёл войну. Логотипом всего созданного Александром Ревичем вполне может быть эпиграф, поставленный им к своей “Чаше”: “Беспроволочный телеграф души сигналы шлёт в распахнутую бездну, в иные времена, и пусть исчезну, ты, речь моя, исчезнуть не спеши”. “Пленник эпохи”, он воссоздал-таки “горестную участь личности” и, говоря словами из его же стихотворения, “возвратился на свою Итаку”. В этих словах – отчётливейший гул движения “времён и пространств”: “Смутный путь, сомнительная эра, и куда кривая занесла! Что нам до Итаки, до Гомера! Но горят мозоли от весла”. Что ж, такими мозолями можно гордиться.
Владимир МОЩЕНКО “МЫ, ПРИЯТЕЛЬ, НЕ ТЕ НОМЕРА НАБИРАЕМ…” Когда вышла из печати книга Семёна Липкина “Семь десятилетий”, я опубликовал в “Независимой газете” статью о ней “На божественном уровне горя и слёз”, закончив так: “Мы не хотим называть её итоговой. Даст Бог, будут у него ещё книги, и мы их будем ждать”. Он читал эту статью во дворе переделкинской дачи. Он был в неизменной своей бейсболке и ветровке, мудрый Мафусаил и застенчивый ребёнок, державший сучковатую палку между коленями и благосклонно взиравший на Александра Кривомазова, который беспрерывно фотографировал его. Дочитав, он задумался, и видно было, что он устал. Мы пошли в его комнату; он лёг на диван, произнёс несколько фраз и признался, что ему надо хотя бы немного поспать. Я заметил в нём непреодолимую слабость, но не сказал ничего его жене и моей давней подруге Инне Лиснянской, которая всё понимала лучше всех и примеряла на себя неотвратимое будущее: “…стану дождя подобьем – плакучим твоим надгробьем”. …Как-то, уже очень давно, мы гуляли с ним по писательскому городку, и он вдруг прочитал: Разве только нам карьер копали, Разве только мы в него легли? Матерь Утоли Моя Печали Не рыдала ль плачем всем земли? Это были его строки 1956 года. Обычно он не любил читать свои стихи вслух, особенно на ходу. Но так уж случилось. И я благодарен этому случаю. Тогда я впервые осознал всеохватность, величие Липкина. Что стало с нами после его смерти? Василий Розанов написал примечательную книжку “Когда начальство ушло”. Там всё сказано о подобной драме. А в памяти моей осталось немало, чему, увы, не дано сохраниться, как, например, снимкам Александра Кривомазова. Во второй половине восьмидесятых вышел “знаменитый” библиографический справочник “Писатели Москвы”. Купив его, я тотчас начал листать страницы на “Л”: есть ли там Семён Липкин и Инна Лиснянская? Их там не было. В общем-то я знал, что не найду их в справочнике, как, допустим, не смог бы отыскать целый квартал напротив памятника Пушкину в центре Москвы (с закусочной “Эльбрус”, с кинотеатром “Хроника”, с аптекой и уютнейшим кафе). Но квартал этот снесли, остался на его месте лишь сквозняк, а Липкин и Лиснянская существовали, жили – не когда-то, а сегодня, тем более – их поэзия. И всё-таки на официальных совписовских страницах между сведениями о Лимановой Г.Х. и Лисицком С.Ф., а также о Лисичкине Г.С. и Лисянском М.С. тоже болезненно ощущались два занозистых сквозняка, два ужасных пробела. Словно предвидя нечто несуразное в этом роде, совсем ещё молодой Липкин (в сорок четвёртом) восклицал: “О патефоны без пластинок!..” Впрочем, поэта вообще не баловали, хотя, во-первых, его самобытный талант проявился очень рано и развивался, несмотря на всяческие препоны, а во-вторых, он – фронтовик, побывавший в окружении, участник Сталинградской битвы. Тем не менее боевые заслуги и несомненный поэтический дар в учёт издательствами брались крайне неохотно, а то и вовсе не брались. Приходилось заниматься в основном переводами. Кстати, их поистине высокий уровень заставил говорить о себе. Первая книга Семёна Липкина (“Очевидец”) вышла в “Советском писателе”, когда автору было уже едва ли не шестьдесят. Критика относилась к его стихам весьма недоброжелательно, обвиняя их одно время даже в “альбомности” и “враждебности”. А тут ещё масло в огонь подлило его и Инино участие в скандальном аксёновском “Метрополе”. О том, что подобное произойдёт, Василий Аксёнов говорил мне перед своим выдворением из Советского Союза и выездом в Соединённые Штаты. Тогда я был при полковничьих погонах. Вспоминая автора этих строк и те времена, ознаменованные взрывом негодования, улюлюканьем по поводу “Метрополя”, Василий Павлович в романе “В поисках грустного бэби” пишет, как он встретил меня в подземном переходе на Манежной и как я пригласил его на “армейские антрекоты”, чтобы послушать новые “контрабандные” джазовые пластинки, и признаётся: “Надо сказать, я удивился: меня уже тогда далеко не все друзья приглашали в гости… Впрочем, если он и слышал о моих делах, то уж только краем уха. В ушах у него и в самом деле не очень-то много места было для посторонних звуков. Он всю жизнь был джазоманом и всегда напевал, насвистывал или просто пальцами постукивал по столу в такт джазовым мелодиям…” (Чтобы, не дай Бог, не скомпрометировать меня, Аксёнов дал мне в этой “книге об Америке” имя Генка, а стихи в упоминаемой главе поместил тем не менее… мои(!): “Трубит Армстронг в свою трубу…” и “Но Майлсу Дэвису сказали…”) Недруги предрекали Липкину полное забвение. Забегая вперёд, замечу, что, к счастью, всё получилось иначе. Иосиф Бродский составил его книгу “Воля”, которая появилась в начале восьмидесятых в США. Затем там же увидела свет новая книга “Кочевой огонь”. А ведь Липкин явно переживал, что его поэзия пересечётся с “линией небытия”. Да, нешуточные дела были. Как известно, тот грандиозный скандал закончился тем, что Инна Лиснянская и Семен Израильевич, объявленные отщепенцами, вослед за Аксёновым вышли из СП, руководство которого делало вид, что этих писателей как бы вовсе и нет. А между тем разве могла существовать отечественная литература хотя бы вот без таких строк Липкина: Я сижу на ступеньках деревянного дома, Между мною и смертью – пустячок, идиома. Пустячок, идиома – то ли тень водоёма, То ли давняя дрёма, то ли память погрома...… Вышагивая с Липкиным всё по тем же переделкинским тропинкам, я слушал его рассказы о детстве, об Одессе, и они сопрягались со строчками, где запечатлены кусты будяка, ярко-красный вагончик, пожелтевшие листья акаций, меняющее цвета Чёрное море, заросшие невысокой травой пустыри, пляшущий под дребезжанье запиленной иглы кожевенный цех… Всё это стало фактом его поэзии. Липкино умилило, что я помню наизусть одесскую лирику: Разбит наш город на две части, На Дерибасовской патруль, У Дуварджоглу пахнут сласти, И нервничают обе власти. Мне восемь лет. Горит июль. Ещё прекрасен этот город, И нежно светится собор, Но будет холод, будет голод, И ангелам наперекор Мир детства будет перемолот… Липкин поощрял моё стремление вернуться стихами в мой довоенный Бахмут. – Там, и только там, вы откопаете клад, – напутствовал он. Потому, конечно, что он сам, ощущая себя “остывшею золой без мысли, облика и речи”, неоднократно проделывал в послевоенных стихах путь к родному городу. Ещё и жизни не поняв И прежней смерти не оплакав, Я шёл среди баварских трав И обезлюдевших бараков. Неспешно в сумерках текли “Фольксвагены” и “мерседесы”, А я шептал: “Меня сожгли. Как мне добраться до Одессы?” Вскоре после этого он написал об одесской синагоге, о её обшарпанных стенах, угрюмом грязном входе, о том, как там, “на верхотуре, где-то над скинией завета мяучит кот”. Тон вроде бы несколько ироничный, что-то вроде будничного. Вот, к примеру, следующий портрет: Раввин каштаноглазый – Как хитрое дитя. Он в сюртуке потёртом И может спорить с чёртом Полушутя. Но чаще всего вовсе не по такому поводу брался за перо Семен Липкин. Ему бы простили и Одессу, и даже синагогу (“шум, разговор банальный, трепещет поминальный огонь свечей”), и даже раввина, – только как могли простить пугающую тревогу, не случайно возникшую на празднике Торы, гневное недоумение: “И здесь бояться надо унылых стукачей?” – и молитву: “Я только лишь прохожий, но помоги мне, Боже, о, помоги!” Тут и доказывать не надо: стихи эти были неизбежными прежде всего потому, что поэт без чьей-либо подсказки понял основное: “Пришёл сюда я поневоле, ещё не зная крупной соли сухого края, чуждой боли”. После такого осознания поэтической сверхзадачи “чуждой боли” уже быть не может. Липкин никогда не возносился, он ни на секунду не смел позволить себе забыть: главное – “не золотые слитки, а заповедей свитки”, оставался самим собой. Я плачу. Оттого ли плачу, Что не могу решить задачу, Что за работою умру, Что на земле я меньше значу, Чем листик на ветру? Как-то я сказал Липкину, пришедшему в себя после долгой болезни, что его поэзия нередко держится на противоречиях, на контрастах. – Вы находите? – озорно спросил он. И я ответил, что его любовь к человеку, к людям проявляется как факт художничества тем явственнее, тем сильнее, чем ярче, убедительнее он показывает всё их несовершенство. Примеров тому несть числа. …Он привык летать в дурное место, Где грешат и явно, и тайком, Где хозяйка утром ставит тесто, Переспав с проезжим мужиком, Где обсчитывают, и доносят, И поют, и плачут, и казнят, У людей прощения не просят, А у Бога – часто невпопад… Этот новый Овидий не страшился петь “о бессмысленном апартеиде в резервацьи воров и блядей”, не то что не страшился – наоборот, считал своим долгом только так слагать свои песни, беря пример с “блатной музыки”, которая “сочиняется вольно и дико в стане варваров за Воркутой”, ведь иначе нельзя прочесть книгу, данную Господом, “на рассвете доесть мамалыгу и допить молодое вино”. Липкину известна беда “забытых поэтов”, умевших находить и краски для описания закатов и рассветов, и, кроме того, “терпкость нежданных созвучий”, испытывавших “восторг рифмованья”: увы, у них не хватило ума стать необходимыми людям, и они просчитались. Почему же просчитались? Они запамятовали вот что: “Говорят, нужен разум в эдеме, но нужнее – на грешной земле”. Именно – на грешной! Стихи Липкина мужественны, потому что не пытаются ни единой буквой, ни единым звуком идти против истины, не всегда (далеко не всегда!) приятной для нас. Как замечательна “Телефонная будка”! Здесь речь вовсе не об обыкновенном “городском сумасшедшем”, который непрестанно и “с напряжением вертит диск автомата”. Это сама поэзия, наподобие того сумасшедшего, проламывается сквозь косность нашего окаянного бытия. Я слыхал, что безумец подобен поэту… Для чего мы друг друга сейчас повторяем? Опустить мы с тобою забыли монету, Мы, приятель, не те номера набираем. Ещё более драматично это чувство выражено в “Комбинате глухонемых”, стихотворении очень предметном, где наличествуют и живая соль знойных городских улиц, и морская даль, и звон трамвая, и мастерская, в которой склоняются над шитьём сорочек артельщики, – и всё ради того, чтобы задаться тем же самым проклятым вопросом: Ничего она не слышит, Бессловесная артель, Лишь в окно сквозь сетку дышит Полдень мира, южный хмель. Неужели мы пропали, Я и ты, мой бедный стих, Неужели мы попали В комбинат глухонемых? Но, к великому счастью, поэзия Липкина проникнута состраданием к ближнему – и не на словах, а на деле, в готовности сочувствовать, допустим, молодой женщине Марусе, у которой “случилось большое несчастье”, поскольку у неё взяли мужа: он в субботу немного подвыпил, потом ему пришлось везти врача, и он заехал к любовнице, застал её с кабардинцем и в ту же ночь сгоряча поранил её. Конечно, “дали срок и угнали”. Что остаётся Марусе? Известно – что: печалиться и любить, ненавидеть его и жалеть его. И это не просто пересказ, – Липкин пересказов не признаёт; он воссоздаёт жизнь своей Маруси (она “в брезентовой куртке, в штанах”), воссоздаёт в строчках и строфах её, ни на что не похожий, особый, мир: Из окна у привода канатной дороги Виден грейдерный путь, что над бездной повис. В блеске солнца скользя, огибая отроги, Вагонетки с породой спускаются вниз. А уже после того как эта действительность создана, следуют строки, которые можно с уверенностью считать поэтическим кредо Липкина: Пусть три тысячи двести над уровнем моря, Пусть меня грузовик мимо бездны провёз, Всё равно нахожусь я на уровне горя, На божественном уровне горя и слёз. Вот оно, отличительное свойство этого поэта, в чьих книгах – “усталый облик правды голой, не сознающей наготы” и отвергающей “хитроискусную суету”, и вот оно, робкое, но оттого и трогательное желание: “О, если бы строки четыре я в завершительные дни так написал, чтоб в страшном мире молитвой сделались они…” Действенность таких стихов заключается не только в их нравственной позиции писателя, но и в поражающей воображение новизне, в виртуозной импровизации, опирающейся на самые неожиданные, а именно липкинские детали бытия. Тут уж никак не приходится говорить о традиционности стиха в известном, смахивающем на упрёк, смысле. Липкин следовал одной традиции – традиции достигать первозданной свежести в каждой строке, раз за разом открывать и открывать мир. Вот как он живописал старинную открытку: Извозчики, каких уж нет на свете, Кареты выстроили – цуг за цугом, А сами собрались в одной карете, Видать, смеялись друг над другом… Картина эта поражает достоверностью, это кисть большого мастера. Но, показывая нам, читателям, город, где происходит действие, дома, улицы, где “я проживаю, но другой, но лучший, но слепо верящий в святыни”, Семён Липкин доказывал, что одних картин, как бы замечательны они ни были, мало, необходимо еще вскрытие сокровеннейших глубин души, обращённой к Всевышнему, и потому стихотворение кончается не столько проникновенными, сколько таинственными словами: “Там ни к чему умельца дар постыдный, и мне туда не шлют открыток”. Как доказано в “Беседе”, “умельца дар постыдный” вызывает порицание Бога: “Пусть лукавил ты с миром, лукавил с толпой, говори, почему ты лукавишь с собой?” Вот почему так важны здесь вопрос стихотворца и ответ на этот вопрос: – Я словами играл и творил я слова, И не в том ли повинна моя голова? – Не слова ты творил, а себя ты творил, Это Я каждым словом твоим говорил. Мера истинности, справедливости, любви и добра у поэта одна – это Бог, кто бы не поклонялся Ему – православный, католик, иудей, буддист, мусульманин… Вот только две иллюстрации: “Одного лишь хочу я на свете – озариться небесным лицом, удаляясь под своды мечети, насладиться беседой с Творцом” (“Ночь в Бухаре”), “Тени заката сгустились в потёмки, город родной превратился в обломки. Всё изменилось на нашей земле, резче морщины на Божьем челе” (“Морю”). Липкин смотрел на Всевышнего сердцем и глазами человека каждой нации, каждой конфессии. В “Двуединстве” это проявилось наиболее впечатляюще: Нам в иероглифах внятна глаголица. Каждый зачат в целомудренном лоне. Каждый пусть Богу по-своему молится: Так Он во гневе судил в Вавилоне. В Польше по-польски цветёт католичество, В Индии боги и ныне живые. Русь воссияла, низвергнув язычество, Ждёт ещё с верой слиянья Россия. Кто мы? Жнецы перед новыми жатвами, Путники в самом начале дороги. Будем в мечети молчать с бодисатвами И о Христе вспоминать в синагоге. Кажется, это уникальный случай в литературе. Никто ещё с такой художественной убедительностью не говорил, что все мы, “Отца единого дети, свеченье видим одно, и голуби на минарете об этом знают давно”. Но и тут Семён Липкин не кривил душой, не обходил стороной мотив “теней заката” и городских обломков. В слишком кратких сообщеньях ТАССа Слышу я возвышенную столь Музыку безумья Комитаса И камней базальтовую боль. Если Бог обрёк народ на муки, Значит, Он с народом говорит, И сливаются в беседе звуки – Геноцид и Сумгаит. Липкин, как уже говорилось выше, напоминал, что рвы копали не “только нам” и на нашем месте так легко оказаться любому. Да, здесь мы слышим “столь возвышенную музыку” с её “внезапно нахлынувшим понятьем Божества”. Вместе с тем эта возвышенность обеспечена прозой жизни, иллюстрировать которую хочется без разбивки на строфы (из-за чего стих не утратит своей поэтичности): “Как тайны бытия счастливая разгадка, руины города печальные стоят. Ковыльные листы в парадных шелестят, оттуда холодом и трупом пахнет сладко”. Эти парадные – на уровне лучших кадров Микеланджело Антониони и Федерико Феллини. А вот как мощно входят в наше воображение окраины Европы, “где на треснувшем глиняном блюде солонцовых просторов степных низкорослые молятся люди жёлтым куклам в лоскутьях цветных”. Липкин без видимых усилий соединяет несоединимое – и не потому, что так ему хочется, а потому, что такова реальность. Она вся именно так скроена, и поэзия первой откликается на эту её особенность. К примеру, заходит разговор о Тянь-Шане: “Бьётся бабочка в горле кумгана, спит на жёрдочке беркут седой” И вдруг… “И глядит на них Зигмунд Сметана, элегантный варшавский портной”. Откуда он взялся, этот Зигмунд? Так уж распорядилась судьба: не исчезнув в золе Треблинки, он попал сюда, и здесь всё рельефно, достоверно до мельчайшей черточки: “День в пыли исчезает, как всадник, овцы тихо вбегают в закут, зябко прячет листы виноградник, и опресноки в юрте пекут. Точно так их пекли в Галилее, под навесом, вечерней порой… И стоит с сантиметром на шее элегантный варшавский портной”. Вот так же, вживую, мы видим праотца нашего Адама, которого Ева укорила: “Зачем это нужно, – вздохнула жена, – явленьям и тварям давать имена?” И Еву не так уж трудно понять. Если б можно было ограничиться лишь наименованием тени, льва, сна, соловья, воды, ветра, тростника… Но ограничиться, на беду, никак нельзя. “Всеобщая ночь приближалась к садам. “Вот смерть”, – не сказал, а подумал Адам. И только подумал, едва произнёс, над Авелем Каин топор свой занёс”. С липкинской поэзией, пожалуй, то же самое. Перед нами волею автора “многоярусный, многодостойный… поднимается к нему Гуниб” – земля Шамиля. “На вершине гранитных громад ныне праздно зияют бойницы, там виднеется зданье больницы, рядом школа, при ней интернат”. Ныне?! Нет, ныне “отсвет кровавый” не на одних лишь тополях, и бойницы праздно не зияют. Или вот такая история: “Писанье читает сапожник в серебряных круглых очках. А был он когда-то безбожник, служил в краснозвёздных войсках…” Всё бы ничего, да кончается эта история сокрушительным взрывом: “О если бы, пусть задыхаясь, сказать этой ранней порой, что в жизни прекрасен лишь хаос, и в нём-то и ясность и строй”. Не обладая дерзостью подлинного художника, такого не скажешь. А как иначе выразить свою боль и боль близких тебе людей? Его памяти я посвятил стихотворение с эпиграфом из Семёна Израильевича: “У Маруси случилось большое несчастье…”: Ночь последняя, ночь Приэльбрусья И дождлива была, и черна. И брезентовой курткой Маруся Незнакомца накрыла вчера. Он не дышит, промокший до нитки. Шорох крыл. Кто же их распростёр? Всё предсказано: лучик карбидки, С гор спускающийся транспортёр, Даже вечность в потоке, рождённом Выше самых заоблачных скал… Незнакомец тот звался Семёном. Он, Маруся, Одессу искал. И нашёл. Больше нету загадки. Ты печаль у Эльбруса развей. Он исправить успел опечатки В этой книге рукою своей. …Даря мне “Семь десятилетий”, Липкин написал на титульной странице: “Владимиру Мощенко – его душе”. Так бы никто не написал. |
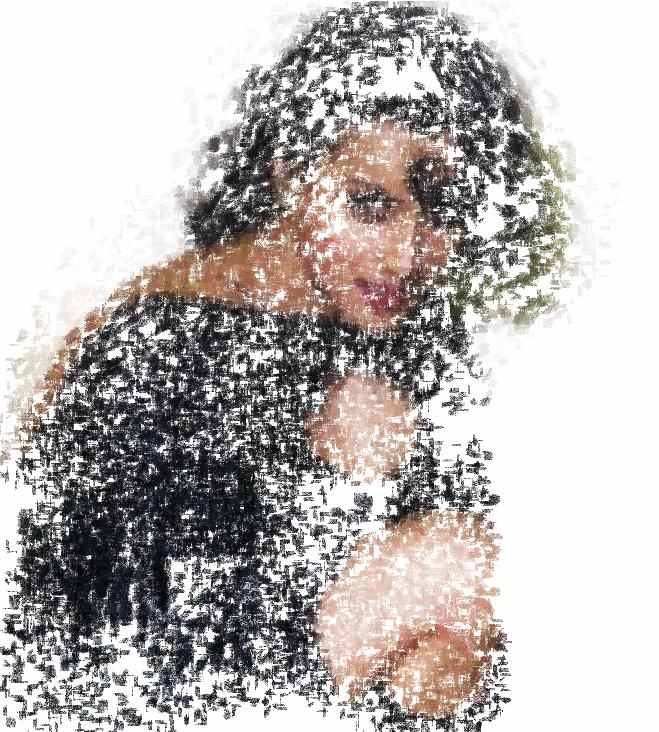
Память. Компьютерная графика - А.Н.Кривомазов, май 2009.
|
|
|
Деград