Окна из алюминия в Севастополе — это новые возможности при остеклении больших площадей и сложных форм. Читайте отзывы. Так же рекомендуем завод Горницу.
Страницы сайта поэта Иосифа Бродского (1940-1996)Коллекция фотографий Иосифа Бродского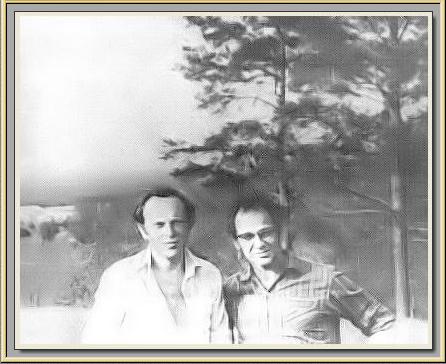
Как знать, может быть это была их последняя встреча на российской земле?
Перо скрипит в тишине,
В которой есть нечто посмертное...
Иосиф Александрович Бродский родился в Ленинграде 24 мая 1940 года.
8. АПОФАТИЗМ Другая составляющая русской культуры - апофатизм, отрицательная теология и отрицательная эстетика, когда высший идеал может быть преподнесен только в отрицательной форме, как отступление от него или недостижение. Согласно основателю апофатической теологии Псевдо-Дионисию Ареопагиту (5-ый - начало 6-го века н. э.), поскольку Божественное превышает человеческое и нет адекватных способов познать и описать Бога, самым точным будет описывать не что Бог есть, а что Он не есть. Бог не есть истина, разум, свет, добро и т.д., не есть даже высочайшее из всего, что мы знаем и говорим. Поэтому предпочтительнее либо вообще молчать о Боге, либо, говоря о нем, подбирать такие уподобления, которые легче обнаружили бы свою несовместимость с Богом. Например, говорить о безумии Бога в каком-то смысле правильнее, чем говорить о Его разумности, потому что спутать Бога с разумом легче, чем спутать Его с безумием. Чем ниже ряд уподоблений, тем меньше опасность подмены. "Поэтому священные писания, вовсе не принижая небесных чинов, поистине отдают им честь, описывая их в неподобающих видах, столь совершенно разнящихся с тем, что они поистине суть, что мы начинаем постигать, как эти чины, столь отдаленные от нас, превосходят всё вещественное. Более того, вряд ли кто-то откажется признать, что несоответствия более, нежели подобия, подходят для восхождения наших умов в область духовного."[1] Например, Бог уподобляется мази со сладким запахом, или краеугольному камню, или льву и пантере; самое низкое и неподобающее, а потому и самое благочестивое - уподобление Мессии червю в мессианском псалме: "Я же червь, а не человек, поношение у людей и презрение в народе" (Псалмы, 22:7). Надо сказать, что отрицательная теология вдохновлялась, конечно, не только и не столько учением Псевдо-Дионисия, сколько самим образом Христа, в котором "Царь Небесный" предстает в "рабском виде", а также образами его притч, где наибольшее уподобляется наименьшему, например, Царство Божие - горчичному зерну. Русская духовная традиция отмечена преобладающим влиянием апофатики не только в теории: центральной фигурой русской святости выступает юродивый, в котором грязь, косноязычие, непотребные слова, безобразное поведение и внешность служат "подобающим несоответствием" божественным вещам. Неудивительно, что и русская словесность, особенно начиная с Гоголя, стала пользоваться апофатическим методом для того, чтобы передать "идеал художника" через образы, подчеркнуто ему несоответствующие. Закономерно, что именно творчество Гоголя стало первым, а по сути, все еще единственным предметом исследования русской художественной апофатики. Первый известный мне прецедент такого подхода на русском материале - статья Robert A. Maguire о преломлении апофатического метода богословия в стиле Гоголя, в частности, в отрицательном синтаксисе описаний и уподоблений, когда предмет характеризуется через отрицание его признаков и самой возможности его описать. Творческое бессилие Гоголя в последнее десятилетие, сожжение второго тома "Мертвых душ" и последующее аскетическое самоумерщвление также соотносятся у Robert A. Maguire с псевдо-дионисийской эстетикой прогрессирующего молчания, когда сама речь, по словам комментатора Ареопагитик, "восходит к прекращению всякой речи".[2] Урок Гоголя, о котором напоминает американский исследователь, безусловно, важен для всей последующей истории художественного апофатизма в России, который во многом усвоил технику образного негативизма, умолчания о главном и выговаривания второстепенного, столь свойственную гоголевскому стилю. К этому стоит добавить, что "мертвость", это универсальное свойство гоголевского мира, тоже может рассматриваться как своего рода апофатический образ, указывающий на подлинную жизнь и величие духа за пределом изобразимого. Если Бог не есть свет и не есть дух, то адекватным способом его представления может быть мрак и бездуховность, господствующие во всех образах зрелого Гоголя. Писатель создает некий "божественный мрак" вокруг каждого предмета, чтобы намекнуть на возможность его божественного просветления, которое просто не поддается описанию, не по силам самому писателю. Красота такая, что "ни в сказке сказать, ни пером описать", пользуясь апофатическим выражением русского фольклора. Это особенно касается такого религиозного предмета, каким для Гоголя была Россия. Если в первом томе "Мертвых душ" предпринято апофатическое описание России через те видимые, косные признаки, которые не тождественны ее подлинной поэтической сущности, то во втором томе поэмы Гоголь попытался подойти к этому возвышенному предмету катафатически (утвердительно), представить Россию в положительных образах "света", "мудрости", "величия", в чем и потерпел неудачу. Именно апофатизм после Гоголя становится господствующим направлением русской художественной культуры, формируя особую эстетику и догматику "критического реализма". Согласно этой догматике, сформулированной Белинским именно на материале гоголевских произведений, в российской действительности нет явлений, лиц и характеров, которые могли бы вылиться в положительные образы. Художник погрешает против правды, если создает идеальные характеры. Это не значит, что художник должен быть вообще лишен идеала, - но его идеал может быть убедительно выражен лишь в критике тех явлений, которые отступают от идеала, в негативном подходе к действительности. Время идеальной поэзии прошло, реальная поэзия не представляет идеала, а только втайне и косвенно намекает на него, беспощадно разоблачая всё то, что притязает воплощать этот идеал. Вся теория натуральной школы и критического реализма покоится на апофатическом основании, негативном представлении идеала, который есть "не то, не то и не то" (под это "не то" подпадают все слои общества, все типы мировоззрения; и писатели, рискнувшие отступить от этого негативизма и создать "идеальные" образы, как Достоевский или Фет, вынуждены оправдываться перед упреками в реакционности и идеализации гнусной действительности). Чары этой критической теории, интуитивно подкрепленной веками восточного апофатизма, были таковы, что только символизм в начале 20-го века рискнул открыто ее опровергнуть и, пользуясь духовным наследием западноевропейского средневековья, утвердить иной эстетический принцип положительного представления идеала. Традиции апофатической эстетики доходят до наших дней, они представлены в прозе Юза Алешковского, Саши Соколова, Венедикта Ерофеева, Виктора Пелевина, Владимира Сорокина, в поэзии концептуалистов и И. Бродского. Так, Веничка из поэмы "Москва - Петушки" не находит лучшего способа доказательства существования Господа, чем "от икоты", которая внезапно поражает и отпускает человека. "Закон - он выше всех нас. Икота - выше всякого закона... Мы - дрожащие твари, а она - всесильна. Она, то есть Божья Десница, которая над всеми нами занесена... Он непостижим уму, а следовательно, Он есть. Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный".[3] Это "шестое" доказательство бытия Божия - от икоты - может показаться кощунственным или, в лучшем случае, пародийно-юмористическим, но оно раскрывает апофатический дух новой русской религиозности не меньше, чем эксцентрические, "богохульные" поступки русских юродивых. Здесь та же логика негативного богопознания - через то, что неподвластно человеческой воле и рассудку и элементарным примером чего выступает икота, череда непроизвольных телодвижений, нерегулируемых временных интервалов. Сопоставление божественного с икотой - это такое же "подобающее несоответствие", как сопоставление Мессии с червем. Вот почему, по словам Ерофеева, словно бы прямо взятым из какого-то трактата по апофатической теологии, "Он непостижим уму, а следовательно, Он есть". Апофатика, подобно демонизму, - это скачок, выверт, не только в художественном письме, но и в жизни художника, а также в плане его общественно-мифологического истолкования. Оказывается, Веничка Ерофеев - и как автор, и как герой - пьет и беспутствует не в удовольствие себе, а в наказание. Это как бы его крест, и он сам сравнивает свое пьянство со стигматами святой Терезы. Так воспринимают "подвиг" Венички и его друзья - филолог Владимир Муравьев, поэтесса Ольга Седакова: пьянство, из-за которого Веничка потерял голос и умер, было какой-то схимой, чуть ли не добровольно возложенной на себя. Так же скорбно и возвышенно воспринимают саморазрушительное начало в жизни и творчестве Владимира Высоцкого. Все это - российская тенденция перескакивать через средний, человеческий уровень, прямо соединять святое и зверское. Животное, цельное, страстное, безудержное, беспорядочное, естественное - сразу и непосредственно начинает представлять собой высшее, божественное, мудрое, сверхъестественное: без разрыва, но с каким-то надрывом и вывертом. В образах С. Есенина, Вл. Высоцкого и Вен. Ерофеева почитаются животные-пророки, священные пропойцы. От натурального - к сакральному, минуя культурное, которое вытесняется и обличается с двух сторон, как недостаточное естественное и как преграда к сверхъестественному. Так было и в толстовском опрощении: икающий мужик, с его "таво" и "тае", содержит больше мудрости и божественной истины, чем Шекспир и Бетховен. У Толстого это делается всерьез, у Ерофеева - с иронией, но в обоих случаях "низкие, натуральные тела" берутся как предпочтительный модус уподобления с божественным, чтобы труднее было смешивать одно с другим, и "для сокрытия истины от непосвященных" (Псевдо-Дионисий). Почему Христос находит образы божественного царства среди самых будничных вещей, вроде горчичного зерна? Почему первое совершенное им чудо - превращение воды в вино, трезвого в пьяное, и отсюда - уподобление небесного царства брачному пиру, встрече жениха и невесты? Но в негативной теологии такое уподобление есть способ подчеркнуть неуподобляемость, абсолютную несопоставимость божественного и земного, тогда как в русской апофатике они именно катастрофически сближаются, два уровня слипаются, вместо разрыва - надрыв, когда недостаточность переходит в преизбыточность, когда недочеловеческое выдается за сверхчеловеческое. Рабочий или мужик принимается за спасителя человечества, преступник - за святого. Это похоже на те секты, в частности, хлыстовство, где очищение достигалось от противоположного, крайним буйством, невоздержанием, избыточностью телесных отправлений, которые, отдавая сполна земле земное, как бы возносили человека над землей, облегчали, отпускали на волю, опустошали и открывали приятию высших сил. Ставрогин, истощив себя в разврате и вседозволенности, отправляется к святому Тихону и может достичь, по представлению Тихона, еще высшей святости, т.е. ключ к святости - грех, безудержная отдача греху и выбивание клина клином, истощение греховной природы через умножение грехов. Отсюда и беседы беспробудно пьющего Венички с ангелами, - они ведь тоже священные животные, и прилетают к опустившемуся животному, своему собрату. Тут воистину аскольдовское "зверь-ангел". Другое дело, что существа, называемые ангелами в "Москве-Петушках", действуют холодно и безжалостно, отдают героя в руки его убийц, т.е. сами выступают скорее всего как "падшие" ангелы, голоса которых ему потому и дано различить. Особого разговора заслуживает апофатическая поэтика Бродского, у которого нагнетание предметных подробностей служит скорее вычитанию, чем прибавлению их к картине мира, которая, таким образом, последовательно опустошается и оказывается нулем, помещенным в изящную овальную рамку. Собственно, свою Музу Бродский называет "музой вычитанья вещей без остатка", "музой нуля" ("Литовский ноктюрн: Томасу Венцлова"). Его поэтическое внимание заостряется именно на таких вещах, которые вычеркивают себя из бытия, а значит, позволяют зримо представить само небытие. Такова, например, бабочка в одном из лучших стихотворений Бродского Ты лучше, чем Ничто. Наиболее яркие и памятные метафоры Бродского, как правило, содержат некий зримый или осязаемый вычет, зиянье, выбоину или впадину. Развалины кариеса во рту - почище, чем развалины Парфенона... Птица, утратившая гнездо, кладет яйцо в пустое баскетбольное кольцо. Прохожий с мятым ...когда книга захлопывалась и когда Вообще в поэзии Бродского непрерывно работает машина стиховычитания. Так, из человека вычитается время - остаются слова. Вычитая из меньшего большее, из человека - Время, От всего человека вам остается часть Либо, напротив, из языка вычитается человек: ...вглядываясь в начертанья И в пространстве, и во времени, и в имени Бродский обнаруживает некий изъян и отсутствие, производит операцию вычитания, в остатке которой остается нуль или даже нечто меньше, чем нуль (название книги его эссе - "Меньше единицы"). Любая сумма в стихах Бродского "зависит от вычитанья" - это сумма разностей, сумма остатков, которые при сложении могут давать обратную, минусовую величину: Из забывших меня можно составить город. Поэзия Бродского - это как бы платонизм наизнанку, его мир состоит из минус идей, отрицательных сущностей. Его город создается из людей, забывших поэта - некая идеальная общность, основанная на минусовом признаке. Разумеется, апофатизм Бродского прямо противовоположен религиозному апофатизму, который использует отрицание для приближения к положительному полюсу бытия. У Бродского, наоборот, тщательное прописывание деталей служит их вычитанию из бытия и наглядному представлению, как последней реальности, самого небытия. В "Колыбельной Трескового мыса" Бродский пишет о своей любви к длинным вещам жизни. Океан длиннее земли, вереница дней длиннее океана, но стократ длиннее всего "мысль о ничто". Длина - это пространство, из которого вычтены все измерения кроме одного - и оно-то, свертываясь еще дальше, уступает место Ничто, которое длиннее всего именно потому, что уже не имеет даже длины, т.е. одного измерения. Ничто - последняя вещь, по отношению к которой все прочие вещи привлекаются лишь для упражнения на вычитание. Я уже много писал об апофатических свойствах концептуального искусства, в частности, у И. Кабакова, Д.Пригова и Л. Рубинштейна , поэтому здесь нет необходимости повторяться.[5] Не нуждается в особых доказательствах и апофатизм таких классиков русской литературы 20-го века, как Андрей Платонов и обериуты. У Платонова все человеческие фигуры едва прикрывают тоскливую пустоту мира, которая служит каким-то невнятным негативом с того, что в духе реалистической эстетики можно было бы назвать "идеалом Платонова", положительные определения которого могут быть разбросаны в диапазоне от марксова коммунизма и федоровского бессмертия до буддийской нирваны. Яков Друскин, представитель обериутов в философии, - один из самых откровенно-апофатических русских мыслителей, причем он, как и Хармс - религиозный мыслитель, сознательно избравший путь апофатизма. У обоих, кстати, нет демонизма, нет пафоса утверждения, миротворения, они сознательно верующие люди, хотя и отчаявшиеся найти "путь перехода", положительный образ для своей веры. [1] Pseudo-Dyonysius. The Celestial Hierarchy. The Complete Works, trans. by Colm Luibheid. New York, Mahwah: Paulist Press, 1987, p. 150.
Деград |

