Окна из алюминия в Севастополе — это новые возможности при остеклении больших площадей и сложных форм. Читайте отзывы. Так же рекомендуем завод Горницу.
Страницы сайта поэта Иосифа Бродского (1940-1996)Коллекция фотографий Иосифа Бродского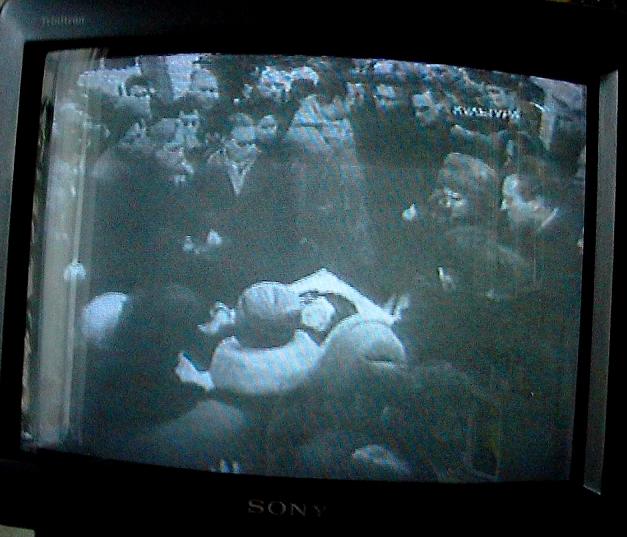
Как-то днем под влиянием какого-то сильного внутреннего толчка подошел к телевизору и включил его. 
Второй кадр портит рябь (возможно, подошел слишком близко к экрану) 
На третьем (и последнем) кадре Тарковский и Бродский неотрывно смотрят на своего кумира, Стихи Арсения Тарковского на сайте СТИХИЯ: http://www.litera.ru/stixiya/authors/tarkovskij/all.html Стихи Иосифа Бродского на сайте СТИХИЯ: http://www.litera.ru/stixiya/authors/brodskij.html Цикл фотографий похорон Анны Ахматовой: 


Явная ошибка надписи. 














Л.Копылов, Т.Позднякова
Послесловие
Если бы 5-е число не было днем смерти Сталина, если бы не помешал омерзительный советский праздник 8 Марта, если бы не борьба за место на кладбище — это были бы похороны не для Ахматовой, они бы не соответствовали всей ее жизни. Михаил Ардов
Как жизнь забывчива, как памятлива смерть. Анна Ахматова
6 марта 1966 года, в преддверии праздника Международного Женского дня «Ленинградская правда» печатала рассказы о делегатах ХХIII съезда партии, о работе парткома Судостроительного завода им. Жданова, об экспедиции сотрудников Арктического института, о детских подарках мамам, о полете автоматических межпланетных станций и о трилогии Ю.Германа. В нижнем правом углу последней страницы газеты, в траурной рамке, была помещена информация: «Ленинградское отделение Союза писателей РСФСР с глубоким прискорбием извещает о смерти старейшего члена Союза писателей, поэтессы Анны Андреевны Ахматовой, и выражает глубокое соболезнование родным и близким покойной. О дне похорон и гражданской панихиде звонить по телефонам: Ж-3-33-43, Ж-7-67-01». «Старейшего члена Союза»? Вероятно, авторы публикации без санкции сверху не решались дать определение месту Ахматовой в советской литературе, и она получила у них это спорное «титулование». Спорное, потому что в 1929 году в знак протеста против преследования Пильняка и Замятина она вышла из Союза писателей, снова вступила туда только в 1940-м, в 1946-м была исключена и принята обратно лишь в 1952 году. Но после того, как «Правда» и «Комсомольская правда» в этот же день, сообщая о кончине Ахматовой, назвали ее «выдающейся русской советской поэтессой», а 8 марта «Литературная газета» поместила некролог о смерти «замечательной русской советской поэтессы», и «Ленинградская правда» «титул» ей повысила. Некролог от имени ленинградской писательской организации был напечатан 10 марта: «Умерла Анна Ахматова. Ушел из жизни поэт, чей голос, чистый и звонкий, звучал более 50 лет в русской литературе». Далее авторы некролога говорили о том, как рос ее талант, как «стих ее становился все громче». 11 марта в газете появилась информация ТАСС о похоронах — сообщение о проводах в последний путь «выдающейся русской советской поэтессы», о траурном митинге в Доме писателя им. Маяковского, о погребении Ахматовой «в поселке Комарово, где поэтесса провела последние годы». Все, как полагалось по советскому ритуалу. Но в эти дни, 8 и 9 марта, в печати появились далекие от официоза отклики на смерть Ахматовой А. Твардовского, К. Паустовского и В. Шефнера. Шефнер сказал о «голосе строгой совести», Паустовский — о том, что Ахматова «щедро одарила своих современников человеческим достоинством», Твардовский — о «необычайной сосредоточенности и взыскательности нравственного чувства» ее поэзии, которая обречена на долгий путь «вместе с “бегом времени”» и вопреки «крайне несправедливым и грубым нападкам на нее, имевшим у нас место в известные годы». Прошло сорок лет. Выявленные за это время многие материалы, связанные с последним земным путем Анны Андреевны Ахматовой, позволяют более отчетливо представить общую картину мартовских дней 1966 года. Смерть Ахматовой 5 марта 1966 года в подмосковном Домодедовском санатории была для всех трагической неожиданностью: «Почти не может быть...» Неожиданностью, хотя она долго и тяжело болела, да и 76 лет — «возраст смертный». Трагической неожиданностью, хотя сама она к смерти относилась без надрыва, мудро, по христиански воспринимая ее как завершение земной жизни. Накануне Ахматова просила передать ей в санаторий Новый Завет, чтобы сличить евангельские тексты с текстами кумранских рукописей. О кумранских находках последняя, сделанная рукой Ахматовой, запись, датированная 4 марта: «Отчего же римляне так страшно мучили кротчайших христиан еще до 73 г., т.е. сразу после смерти Христа (33 год)». Констатировавшая смерть врач вспоминала, что на груди у Анны Андреевны был большой нательный крест…
Кого когда-то называли люди Царем в насмешку, Богом в самом деле, Кто был убит — и чье орудье пытки Cогрето теплотой моей груди...
В санатории не положено умирать, поэтому тело Ахматовой спешно укрыли в каком-то подсобном помещении и в тот же день перевезли в больницу им. Склифосовского — бывший Странноприимный дом графов Шереметевых под их родовым гербом с девизом «Deus conservat omnia». На утро 7 марта Мария Вениаминовна Юдина заказала заочную панихиду в церкви Николы в Кузнецах. Лев Копелев вспоминал, что с маленькими свечками стояли человек сорок. Звучали печально утешающие слова «Со святыми упокой...». По знаку хориста все запели «Вечная память». Этим же вечером друзья и близкие собрались в доме Марии Сергеевны Петровых. Похороны задерживались в связи с женским праздником, заслонившим все прочие, не столь значительные события. Возможно, Москва вообще предпочитала остаться на этот раз в стороне. Власти боялись возможных «демонстраций», подобных недавней, на Пушкинской площади под лозунгом «Уважайте Конституцию!», которая была разогнана в декабре 1965 года. Не прошло и трех недель после возмутившего спокойствие российской интеллигенции процесса над А.Синявским и Ю.Даниэлем. Продолжали идти письма протеста. Писали, не скрывая своих имен, жены арестованных, друзья и незнакомые люди, писали российские писатели и деятели мировой культуры. Писали в Московский городской и в Верховный суд, в газеты, в Президиум Верховного Совета СССР, в адрес ХХIII съезда партии. Еще до процесса, который готовился как политический суд над литературой, в ноябре 1965-го, Ахматова, не любившая прозы Синявского, сказала Лидии Корнеевне Чуковской: «Ах, причем тут хорошая проза, плохая проза... Надо одно: чтобы эти люди не попали на каторгу». В последних числах февраля 1966 года Ахматова говорила со Львом Копелевым о процессе: «Я только сейчас узнала, что академик Виноградов участвовал в этой подлости. Был председателем экспертной комиссии. А ведь он настоящий ученый, мы пятьдесят лет знакомы, даже дружны. Он интересно писал о моих стихах. Но теперь нельзя подавать ему руки». Было очевидно, что смерть Ахматовой может вызвать новую волну поддержки опальной литературы. Начальство Московского отделения Союза писателей, по словам Владимира Муравьева, «вибрировало и тряслось». Со злой горечью он вспоминал: «Москва хорошо проводила великого русского поэта: обнаженный труп Анны Андреевны три дня лежал в подвалах морга — по случаю праздника Восьмого марта. Таковы были проводы, которые устроила Советская Россия. Достойные проводы. Именно это она от них и заслужила». Видимо, уже 6 марта руководство московских писателей приняло решение отправить гроб с ее телом в Ленинград, под предлогом того, что Ахматова состояла в ленинградской писательской организации. В Ленинграде родственникам нужно было определить место для захоронения. По свидетельству Бродского, Пунины похоронами заниматься не хотели, и сказали ему: «Иосиф, найдите кладбище». Поисками кладбища Бродский занимался вместе с Зоей Борисовной Томашевской. Вопрос был очень важен: место погребения Ахматовой должно стать знаком ее связи с этим городом, с его тенями, с его историей. Невозможно было похоронить Ахматову рядом с Блоком и Лозинским на Литераторских мостках: для похорон на столь престижном кладбище должна была быть санкция властей. Ленинградское отделение Союза писателей даже не обращалось с подобной инициативой в обком партии. Ведь над Ахматовой продолжало «висеть» постановление 1946 года, назвавшее ее поэзию чуждой советскому народу. Тем более что во главе Ленинградского обкома стояли такие одиозные фигуры, как Толстиков и Романов. Но в то же время немыслимо было представить себе, что Ахматова будет покоиться на широко доступных Южном или Северном кладбищах, безликих и жутковатых. А против предложения Ирины Николаевны Пуниной подхоронить Ахматову в семейную могилу Пуниных в Павловске выступил Бродский. Томашевская решила обратиться за помощью к Игорю Ивановичу Фомину: «Он зам. главного архитектора города, знает каждый камень, каждую пядь земли. Человек, который все понимает — и подлинное место Анны Андреевны, и все сложности. Умен, дипломатичен, хитер. Будучи беспартийным, занимает очень высокий пост». Фомин и посоветовал Комарово, маленькое, бывшее финское, кладбище русских эмигрантов: «Ее могила станет центром кладбища. Туда будут все стремиться. Кладбище станет ахматовским». Вызвал архитектора Курортной зоны с планом кладбища. Точно по центру продольной аллеи обозначили место для могилы. И уже Томашевская с Бродским на комаровском кладбище договаривались с могильщиками. В Москве гроб с телом Ахматовой должны были доставить 9 марта на рассвете на аэродром, в отдел перевозки грузов. И для того, чтобы москвичи все-таки могли проститься с Ахматовой, Лев Копелев решается на подлог: не имея на это никаких полномочий, он от имени «комиссии Союза писателей по похоронам Ахматовой» вечером 8-го звонит в Шереметьево, и ему удается получить разрешение на отсрочку — привезти гроб на несколько часов позже указанного срока, прямо к самолету. Люди по телефону оповещали друг друга о том, что прощание будет в морге больницы Склифосовского 9 марта, в десять часов утра. У гроба стояли Нина Антоновна Ольшевская, Надежда Яковлевна Мандельштам, Анна Каминская, Ника Глен, Юлия Живова, Анатолий Найман… Мимо медленно двигалось безмолвное шествие. Потом в небольшом дворике, на задворках больницы, Виктор Ефимович Ардов открыл траурный митинг. Поднявшись на скользкие ступени, говорил Лев Озеров: «Завершилась большая жизнь Анны Андреевны Ахматовой. Начинается, уже началось ее бессмертие». Ефим Эткинд, специально приехавший на прощание из Ленинграда, сказал: «Наши потомки будут относиться к гонителям Ахматовой так же, как мы сегодня относимся к гонителям Пушкина». Несколько скорбных фраз, с трудом справляясь с волнением, произнес Арсений Тарковский. Затем вдруг митинг внезапно прекратили. Не ясно, кто отдал это распоряжение. Днем 9 марта гроб с телом Ахматовой перевозят на самолете в Ленинград. По поручению Московского отделения Союза писателей его сопровождают Арсений Тарковский, Лев Озеров и Виктор Ардов. В самолете находятся родственники — Анна Каминская и ее муж Леонид Зыков. Этим же самолетом летят секретарь и друг Ахматовой поэт Анатолий Найман, ее молодой собеседник последних лет, поэт и переводчик Владимир Муравьев и Надежда Яковлевна Мандельштам. (В полночь на поезде в Ленинград выехали Иван Дмитриевич Рожанский, Вячеслав Всеволодович Иванов, Лев Копелев. На вокзал Михаил Ардов принес им вещи Ахматовой и чемодан с ее рукописями. В Ленинграде они отдали этот чемодан Ирине Николаевне Пуниной…) Около пяти вечера самолет прибыл в Ленинград. На аэродроме, кроме близких, самолет ждали несколько официальных лиц — сотрудники Литфонда, режиссер Семен Аранович со своими операторами и, кроме того, кинооператоры из КГБ. Ленинградский обком и КГБ приняли меры — не допустить действий за пределами положенного ритуала. В ожидании потенциальных выступлений кинооператор, сотрудник отдела контрразведки КГБ, Валерий Поляков получил задание: для облегчения дальнейших действий пятого отдела КГБ снимать всех участников похорон. Подобная методика была уже в арсенале КГБ, когда шел суд над Иосифом Бродским, — стремились зафиксировать «неблагонадежных». Из близких гроб встречали Лев Гумилев, Зоя Борисовна Томашевская, Виталий Яковлевич Виленкин, Семен Давидович Цирель-Спринсон, Михаил Мейлах, Александр Кушнер, Иосиф Бродский... Муравьев рассказывал, что он запомнил «Бродского с красными глазами, всклокоченными волосами и полным отчаянием на лице [...] совершенно как фигура из гойевского каприччио “Отчаяние”». Самолет подрулил близко к зданию аэровокзала, и встречавшим разрешили выйти на летное поле. Ассистент Арановича Л.Л.Кухолева вспоминала, как выплыл из трюма — из багажного отделения — страшный, болтающийся в воздухе ящик, а на нем было написано «Не кантовать»... Ящик с гробом поставили в автобус. Найман заметил, как Лев Гумилев, не обращая внимания на окружающих, повторял: «Мама, мама…» Они не виделись несколько лет. Из «Записок» Лидии Чуковской, по воспоминаниям Герштейн и Томашевской мы знаем, как тяжело Ахматова переживала разрыв с сыном. За два месяца до смерти Ахматова сообщила Чуковской самую дорогую для себя новость: «Лева был у Нины [Ольшевской] и сказал: “Хочу к маме”». Но доброжелатели не пустили его к ней в больницу — полагали, что волнение от встречи повредит ее здоровью… Автобус следовал через город к Никольскому собору. Там на вечер 9 марта была родственником Пуниных, Львом Евгеньевичем Аренсом, заказана панихида. Народу на панихиде было немного: телефоны Ленинградского отделения Союза писателей, чьи номера для справок сообщила еще 6 марта «Ленинградская правда», информации о церковной службе не давали. Но проведению панихиды тем не менее власти не препятствовали, считая ее частным делом родственников. Ящик с гробом внесли в темный собор. Поставили рядом с другим, в правом притворе. Распечатали. Гроб открыли. На голове у Ахматовой — черная косынка из старинных кружев, подаренная ей в Оксфорде Соломеей Андрониковой — мандельштамовской «Соломинкой, Соломкой, Соломеей». Лев Гумилев и Зоя Томашевская не отходили от гроба. Зоя Борисовна смотрела на лицо Ахматовой: «Совершеннейший Данте». Приехали Ирина Николаевна Томашевская и Лидия Яковлевна Гинзбург, Екатерина Константиновна Лифшиц, Александр Горфункель… (Через двадцать семь лет, уезжая в 1993-м из России, Александр Горфункель передал музею Анны Ахматовой в Фонтанном Доме огарок той свечи, которую он держал тогда в церкви у гроба Ахматовой. Все эти годы она хранилась у него прикрепленной к иконе Иоанна Предтечи, северного письма ХVII века.) Шел Великий пост, поэтому в церкви повторяли и повторяли молитву Ефрема Сирина. Священник читал проповедь, посвященную этой великопостной молитве, о грехе уныния. По регламенту на следующий день, 10 марта, была запланирована гражданская панихида в ленинградском Доме писателей. Но этому официальному мероприятию предшествовало не предусмотренное регламентом отпевание, которое на утро в Никольском соборе заказал Лев Николаевич Гумилев, как глубоко верующий человек, видевший в этом свой христианский долг. Несмотря на старательное выкорчевывание советской властью религиозного сознания в обществе, Ахматова никогда не отпадала от православия. Но она никогда и не демонстрировала свое неприятие советской действительности. Не принимала самую шкалу государственных ценностей, но была чужда и зреющему в обществе диссидентству. Дворянское воспитание, причастность мировой культуре, аристократизм ее духа — все это определяло и стиль ее бытового поведения. Она была выше того, чтобы замечать казенную убогость советских праздников, оспаривать процедуру советских выборов. При посторонних обычно холодно подчеркивала лояльность режиму. Конечно, за этим стоял и страх за себя и за близких. Она помогала маленькой Ане Каминской составлять, как положено, школьные сочинения о Сталине, не желая навязывать свою позицию еще незрелому человеку. Она не шла на провокации подобно той, что устроило в мае 1954 года ленинградское партийное руководство Союза писателей, организовав ее встречу с оксфордскими студентами. Им, далеким от советских реалий, остался непонятен эзоповский язык той интонации, с которой она ответила на их вопрос об ее отношении к постановлению 1946 года: «Оба документа — и речь товарища Жданова, и постановление Центрального Комитета партии — я считаю совершенно правильными». У русских эмигрантов в Англии в 1965-м вызвало недоумение то, что город свой она называла Ленинградом, а не Петербургом. Но ведь это был уже другой, не знакомый им, ее город — «город славы и беды». И все-таки главным для нее была «тайная свобода» поэта. Сын помог ей в ее смерти освободиться от навязанных ей рамок советского ритуализированного быта.
Утром 10 марта в Никольском соборе начинали готовиться к отпеванию, а Иосиф Бродский, Михаил Мейлах и Владимир Зыков, брат мужа Анны Каминской, отправились в Комарово. Зыков рассказывает: «Ирина Николаевна Пунина попросила Бродского со мной и Мишей Мейлахом сначала в день похорон по дороге на кладбище заехать на улицу Зодчего Росси за каким-то еще разрешением на захоронение. Там была контора по благоустройству, кажется. Мы получили эту бумагу и отправились в Комарово. Нас в машине, кроме водителя, было трое. Мы сидели на заднем сиденье, в центре — я, слева — Бродский, справа — Мейлах. Иосиф всю дорогу молчал. Миша Мейлах попросил остановиться около хозяйственной лавки — купить свечи для того, чтобы потом, после похорон, на даче, в “будке”, зажечь их. Иосиф очень боялся опоздать на отпевание. Мы приехали на кладбище, могила еще не была выкопана. Стояли трое могильщиков. Эти ребята уже немножко выпили. Они сняли дерн и говорили: “Ну, место очень хорошее, дальше — песок, белуга”. Они так и говорили: “Будет белуга”. Это чисто русское кладбищенское выражение — белый песок так называли. А могильщики, ну прямо как у Шекспира. Иосиф достал при мне компас, обыкновенный, с трещиной на стекле, такой, знаете ли, геологический старый компас и сориентировал могилу по сторонам света, с тем чтобы правильно положить, по-христиански, на восток головой. После того, как сказал: “Копать вот так”, они и начали. А мы сели в машину и помчались в город со страшной силой, потому что опаздывали». В это время в Никольском соборе шло отпевание. Зажжены были все паникадила, горели тысячи свечей. По церковной символике зажженные на отпевании свечи — это и напоминание о Воскресении, и свидетельство того, что умерший внес в сумрак нашего мира проблеск света. Стрекот камер мешал высокой торжественности обряда: в соборе работали сотрудники студии кинохроники. Режиссер Аранович привел свою группу, у которой, по счастью, было необходимое оборудование, пленки, транспорт, выделенные для съемки другого, официально разрешенного, фильма. Снимали «для истории». И даже Лев Гумилев, воспринимавший это как кощунственную суету, вынужден был смириться с происходящим. Понимание и мужество проявили и служители Никольского собора. Аранович позже говорил: «Нам никогда не разрешалось снимать в церквях, и священники знали это очень хорошо. И когда я пришел в Никольский собор и обратился к отцу Петру, который был в то время молодым священником, и объяснил ему, чье будет отпевание, то он сказал: “Я знаю”. Я сказал, что хотел бы снять отпевание. Он спросил: “У вас есть разрешение?” Я сказал, что у меня нет никакого разрешения. Он сказал: “Мы не хотим рисковать”. А я ему: “Я прошу вас, мы вместе ответим за это, но мы должны это снять”». Но оказалось, что пленка сохранила для истории не только церковный обряд, но и общее высокое горестное противостояние генеральной линии поведения всех собравшихся. Откуда ленинградцы узнали, что в Никольском соборе будет отпевание Ахматовой? И сегодня те, кто был там, не могут точно ответить на этот вопрос: «не знаю», «кто-то сказал», «слухи были». Но «слухи», «молва» за сутки облетели весь город, приведя в собор, по отдельным подсчетам, более пяти тысяч человек. Собор не смог вместить пришедших проститься, запружен был сад. Гроб с телом Ахматовой стоял уже не в притворе, а в центре церкви. Она лежала в гробу как следует по православному обряду: на лбу — молитвенный поясок, на груди — иконка. Голос священника: «Прости грехи вольные и невольные, с умыслом и без умысла... и сотвори вечную память...» В соборе необычно много молодежи. Один из тогдашних молодых, Борис Ефимович Казанков, вспоминает о том, что тогда этот старинный церковный обряд не показался ему чуждым: «В сущности, это было ее завещание. Пришли на отпевание не только верующие. Я вглядывался в лица и читал на них не только скорбь. Здесь, под сводами кафедрального собора, я ощутил впервые в нашей и в моей жизни человеческое единение. Каждый понимал, что со смертью Ахматовой кончилась целая эпоха». А ведь совсем недавно шли хрущевские антицерковные кампании. Никита Сергеевич обещал в 1980 году показать по телевизору «последнего попа». И вот люди, собравшиеся в храме на отпевании Ахматовой, верующие и неверующие, объединяются в молитве о жизни души в Вечности, о земной ее памяти, о своей немеркнущей любви к усопшей. Казалось бы, о какой общей молитве можно говорить, когда подавляющее большинство не знает никаких молитв, не может разобрать тех слов, что произносит священник, не понимает того, что поет хор. Но возникшая соборность делает каждого причастным доселе не известным им ценностям, отторгаемым советской действительностью: «Блажен путь, в которой ты идешь днесь, душа, ибо уготовалось тебе место упокоения…» А ведь в церковной обрядности публичное отпевание вовсе не является обязательным: крепка вера в то, что со смертью христианина Господь выпускает из плена телесности на свободу его живую душу, что встреча этой души с Богом неизбежна. Отпевание нужно живым, чтобы не снять, но преодолеть скорбь в общей любви, в совместном прикосновении к тайне смерти, которая освещает особым светом продолжающуюся жизнь. Подспудно власти, видимо, понимали — то, что сейчас происходит, естественно отворачивает людей от ценностей ложных. Это событие, это состояние соборности фиксируют киноаппараты в руках у операторов группы Семена Арановича и у операторов — сотрудников КГБ. (Во многих ленинградских домах после отпевания Ахматовой тиражированная ее фотография работы Борисова, опубликованная в сборнике «Бег времени», сменила фотопортрет Хемингуэя.) Прошел слух, что возле собора — кагэбэшники. Режиссер А.Л.Лазарева рассказывала, что на паперти увидела свое начальство: «Тут был директор кинохроники Валерий Михайлович Соловцев и главный редактор. Тут же какие-то люди, весьма стереотипно они выглядели — сразу понятно — из какой организации. На моих глазах они выхватывали у наших операторов, Аркадия Рейзентула и Анатолия Шафрана, пленки, вероятно, тут же засвечивали их. А директор держал в руках блокнот и записывал всех сотрудников кинохроники, выходящих из собора». (Тридцать лет спустя бывший оператор КГБ Поляков вспомнил: «Один из тех же писателей-доброхотов, который, по-видимому, и сообщил в органы о том, что группа Арановича собирается снимать в церкви, и который сейчас имеет большое имя, он был на приеме у Толстоногова. Нет, не у Толстоногова, а как его? У секретаря обкома… Толстикова. Вот, у Толстикова был он и сказал: “Ну в принципе, ну что для России Ахматова”. И студия кинохроники получила указание уничтожить — смыть все материалы, отснятые ими. По-моему, они успели напечатать контрольную копию, и куски этой контрольной копии, они все-таки остались».) В начале третьего часа дня 10 марта автобус с гробом и сопровождающие двинулись от Никольского собора к улице Воинова, где в Доме писателей, в бывшем Шереметевском особняке, должна была проходить гражданская панихида. Но тут стоит обратиться к воспоминаниям близкого знакомого Ахматовой, библиофила С.Д.Цирель-Спринсена о том, что происходило за три дня до этого: «6 марта, к ночи, мне позвонила по телефону взволнованная Ирина Николаевна Пунина и сообщила, что ей только что позвонили из Союза писателей и сказали, что Союз не будет заказывать автобуса для перевозки гроба с телом Ахматовой из собора в Дом писателей. Это, как ей объяснили, Союзу неудобно. Ирина Николаевна плохо себя чувствовала и просила меня взять на себя хлопоты, связанные с заказом автобуса. На следующий день я поехал в контору похоронного обслуживания на Владимирском проспекте. В конторе за барьером сидела девушка-служащая. Я обратился к ней с просьбой дать автобус на 10 марта для перевозки гроба... В ответ на мою просьбу она заявила, что на 10 марта все автобусы уже распределены и свободных автобусов нет. Тогда я ей сказал, что это для умершей писательницы Ахматовой и что 10 числа должна состояться в Доме писателей гражданская панихида. Но все это не произвело на нее ни малейшего впечатления. Было совершенно ясно, что фамилию Ахматовой девушка слышит впервые. Что делать?! Обескураженный, я отошел от барьера. Тут ко мне обратились трое простых молодых ребят, находившихся тут же в конторе и слышавших мой разговор с девушкой за барьером. Насколько я мог понять, это были рабочие с кладбища. — Кто умер? — спросили они. — Известная писательница Ахматова. — Ахматова умерла?! — воскликнул один из них. Он оставил меня, зашел за барьер и сказал девушке приказным тоном: “Выписывай автобус!” — Нет автобусов, — сердито ответила она. — Дура, это же Ахматова! Ты что, не понимаешь?! После этого короткого и выразительного разговора девушка достала книгу бланков и уже без всякого возражения стала выписывать мне счет. Я поблагодарил ребят и спросил их, знали ли они Ахматову и читали ли ее произведения? Нет, не читали, — ответили они, — но знаем, что есть такая писательница и что она много претерпела». Копелев пытался догонять катафалк на такси, на Литейном машину остановил постовой милиционер — выезда на Воинова нет. Гроб с телом устанавливают на втором этаже, в небольшом зале, который не может вместить и двухсот человек. Поэтому все примыкающие помещения и лестницы забиты людьми. Людская толпа и на улице вокруг Дома писателей. Из воспоминаний Томашевской: «Толкотня и беспорядок. Войти невозможно. Закрывают двери. Мы (Лева, Надежда Яковлевна Мандельштам и я) остаемся на улице. Лева находит, что нам здесь самое место. Надежда Яковлевна негодует». Елена Кумпан зажата толпой: страшно — ей через две недели родить. Появляется Бродский, окликает ее, осторожно протаскивает к двери и ставит в безопасное место. И тут же бросается за Львом Николаевичем. Распорядительница Зуева пытается навести порядок. Наверное, это ее имел в виду Михаил Ардов, когда вспоминал: «Некую даму-распорядительницу упрекнули в том, что все устроено очень плохо. Та ничтоже сумняшеся отвечала: — В следующий раз организуем лучше. — Следующий раз будет через сто лет! — крикнули ей из толпы». Откуда-то доносилась музыка: Борис Тищенко играл «Реквием», написанный на ахматовскую поэму, текст которой еще почти никому не был известен. (Карл Элиасберг, тот самый, кто стоял у дирижерского пульта, когда в блокадной филармонии исполнялась Седьмая симфония Шостаковича, предложил привести оркестр. Не разрешили.) Запланированные выступающие произносили речи, некоторые — по бумажке. Почти ничего не было слышно. Как и положено по утвержденному ритуалу, сменялся «почетный караул». Первым говорил Михаил Дудин, потом — Ольга Берггольц, Майя Борисова, академик Алексеев... Завершал митинг Николай Рыленков. Потом началось прощание. Очередь двигалась медленно — люди на лестнице за несколько минут одолевали только одну ступеньку. Народ шел и шел. Цирель-Спринсон случайно слышал телефонный разговор кого-то из администрации, вызывающего милицию, чтобы перекрыть вход. Приехали милиционеры, протиснулись через толпу, а потом, сняв фуражки, стояли вместе со всеми… В пять часов гроб наконец выносят к автобусу. Вместе с похоронным и еще двумя автобусами двинулось множество разных машин, частных и такси, взятых вскладчину. Многие из тех, кто не попал в Дом писателей, не дожидаясь окончания гражданской панихиды, отправились в Комарово электричкой. Борис Казанков, помогавший грузить венки, ехал в автобусе стоя, прислушивался к разговорам людей, близко знавших Ахматову. Его неприятно поразило, что вспоминали совсем не то: «Преимущественно, быт, тяжелый и неустроенный, выясняли отношения между Ахматовой и ближайшими родственниками. Упрекали одних, хвалили других. Обидно. Совсем не то настроение, которое царило в соборе. Все слишком земное, даже, лучше сказать, заземленное». Траурный кортеж возглавляют милицейские машины. Томашевская вспоминала: «Крутятся синие сигналы, воют сирены. Лев Николаевич удовлетворенно потирает руки: “И мама не без фельдъегеря”, — и просит шофера свернуть к Фонтанному Дому. “Фельдъегери” махнули дальше». Пушкинская традиция — так провожать поэта в последний путь. Милиция возмущена изменением маршрута. По воспоминаниям Анны Генриховны Каминской, переговоры с представителями власти берет на себя Павел Николаевич Лукницкий, и путь к Фонтанному Дому свободен. Остановились у Шереметевского дворца. Кто-то, не понимая, насколько значим он был для Ахматовой, возмущается бессмысленной потерей времени. Двинулись дальше. Заехали на улицу Ленина, последний ахматовский адрес, — забрать крест. Его 9-го числа привезли с Ленфильма, где Алексей Баталов, который в это время снимал «Трех толстяков», заказал его в бутафорских мастерских. К семи часам 10 марта приехали в Комарово. Владимир Александрович Зыков рассказывал, что автобус вынужден был остановиться неподалеку от «будки» — хоть и весна, а везде сугробы. И дальше всю дорогу до кладбища люди шли, увязая в снегу. Гроб несли на руках. «Менялись. Я тоже нес. Но не помню, с кем. Вдоль дороги стояли люди и бросали на дорогу цветы. Не знаю, почему об этом никто не вспоминает…» Но все помнят, что медленно двигался, возвышаясь над головами, деревянный, некрашеный, восьмиконечный православный крест. Подошли к вырытой могиле. Томашевская: «Очень холодно и снежно. Все, что было на кладбище, почти не помню. Служил коротенькую панихиду Левин духовник из Гатчины. Речей тоже не помню. Только лица — Тарковский, Бродский, Рейн, Найман, Лукницкий, Копелев, Игорь Ершов, Миша Ардов...» Бродский и Найман стояли молча. Рейн плакал. Олег Волков обратился к Копелеву: «Семья просит, чтобы вы говорили». Но вместо Копелева объявили Сергея Михалкова. Многие вспоминали, что он, стоя у могилы, чтобы согреться, «толкал соседей плечами, едва ли не хихикая. Достал из кармана бумагу с машинописным текстом и прочел нечто бесцветное, бездумное». Казенный официоз его выступления звучал в этой молчаливой толпе диссонансом. Макогоненко сказал о том, с каким достоинством переносила Ахматова обиды и несправедливости. Арсений Тарковский говорил почти неслышно. Из воспоминаний Екатерины Лифшиц: «Наверное, он плакал, когда говорил, потому что потом, когда он оказался рядом со мною, он все еще плакал, не так, как плачут взрослые мужчины, а горькими слезами, с лицом, как у ребенка, искаженным гримасой плача». То, что говорил Тарковский, хорошо расслышал Владимир Зыков: «Такой силы выступления, как у него, ни у кого не было. Он прочитал стихи. Вот эти, которые начинаются так: “По льду, по снегу, по жасмину...”».
По льду, по снегу, по жасмину, На ладони снега белей Унесла в свою домовину Половину души, половину Лучшей песни, спетой о ней...
Похвалам земным не доверясь, Завершив свой земной полукруг, Полупризнанная, как ересь, Чрез морозный порог и через Вихри света смотрит на юг.
Что же видят незримые взоры Недоверчивых светлых глаз? Расступающиеся створы Верст и зим, иль костер, который Принимает в объятья нас.
«Когда опускали гроб в могилу, — воспоминал Копелев, — возник спор, куда ставить крест, в головах или в ногах. Спорили все более шумно, ссылаясь на обычаи и церковные правила. Высоким голосом сердился Лев Николаевич». Сложили на могилу цветы и венки. Самый большой — от Шостаковича. И уже почти ночью была еще одна панихида — в «будке». Там висел траурный венок из еловых веток, без лент. Собрались самые близкие. Зажгли свечи. «Единственно, что я ясно помню, — рассказывал Владимир Зыков, — это то, что пытались мы разжечь костер, потому что она любила костер…» Источник: http://www.nasledie-rus.ru/podshivka/7716.php С.А.Шустер
Фрагменты из статьи «В помещении Интимного театра…»
Предыдущий очерк был написан научными сотрудниками петербургского музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме как своеобразное послесловие к статье известного коллекционера и кинорежиссера С.А.Шустера, посвященной киносъемке похорон Ахматовой в 1966 году. Текст, озаглавленный «В помещении Интимного театра…» (в этом помещении долгие годы располагалась Ленинградская студия кинохроники, сотрудники которой осуществили описываемую съемку), Соломон Абрамович передал в журнал незадолго до своей внезапной кончины десять лет назад в Берлине на вернисаже выставки «Берлин — Москва», и очерк долгое время оставался в редакционном архиве. Но однажды его извлекли на свет Божий и решили опубликовать — и потому что он остался интересным фактографически, раскрывая уже многими подзабытую тяжелую атмосферу, в которой бытовала советская интеллигенция в середине шестидесятых годов; и в память об авторе, который часто печатался в нашем журнале, всегда был желанным гостем редакции, коллекционером старой школы, чьей деятельностью мы искренне восхищались. Тогда и обратились мы в музей А.Ахматовой с просьбой прокомментировать статью С.Шустера. Так родился очерк «Послесловие». Пока в редакции, как обычно неспешно, готовилась эта работа, подошло 10-летие со дня смерти С.А.Шустера. В элегантной галерее «Наши художники», в деревне Борки на Рублевке, была организована превосходная выставка русских художников начала ХХ века, частично из собрания самого Шустера, некоторые первоклассные работы в память о своем блистательном коллеге представили для экспозиции московские коллекционеры. В это же время в издательстве «Трилистник» вышла книга очерков и статей Соломона Шустера «Профессия — коллекционер», куда по праву включена составителями и его работа о киносъемке похорон Ахматовой. Поэтому, печатая к 40-летию со дня смерти А.А.Ахматовой очерк «Послесловие», мы сопровождаем его лишь несколькими отрывками из текста С.А.Шустера, публикуемого по оригиналу, хранящемуся в редакции, тем самым отдавая дань памяти выдающемуся коллекционеру — другу и автору «Нашего наследия».
Итак, 1966 год, март месяц. […] Молодой режиссер ленинградской кинохроники Семен Аранович вчера вернулся из Москвы, и вечером я был у него дома — надо было поговорить о плане предстоящих съемок. Но разговор зашел совсем о другом — об Анне Андреевне Ахматовой, скончавшейся за два дня до этого в Москве, о предстоящих ее похоронах в Ленинграде. — Семен, — сказал я, — нам надо снять эти похороны. Давай сделаем фильм об Ахматовой — ее последний день в Ленинграде и вся ее жизнь. Семен, человек увлекающийся и быстрый в решениях, тут же согласился. А возможно, он уже и сам думал об этом. Организовывать съемку надо было немедленно. Похороны через день или два. Был выходной, и дело шло к вечеру. Прежде всего я позвонил знакомому Анны Андреевны — Моисею Семеновичу Лесману — музыканту и собирателю автографов русских поэтов. Рассказал о нашей идее. — Обязательно, обязательно надо снимать, — ответил Моисей Семенович. — Сейчас я позвоню Ирине. Искусствовед Ирина Николаевна Пунина была падчерицей Анны Андреевны. Нарушая хронологию рассказа, хочу заметить, что в архиве несколько лет назад скончавшегося Моисея Семеновича его вдова Наталья Георгиевна Князева нашла машинопись — запись рассказа Лесмана о съемках похорон Анны Андреевны, которую он делал для поэтессы Елизаветы Григорьевны Полонской, и начинается он: «Ко мне обратился Соломон Абрамович Шустер, что собирается произвести съемку похорон, но у него нет пленки. Я ответил, что пленку надо достать за любые деньги, и он со мной согласился». Через несколько минут я уже говорил по телефону с Ириной Николаевной Пуниной. От своего имени и от имени своей дочери — Ани Каминской, которую Анна Андреевна называла своей внучкой, она дала согласие на съемки и вызвалась позвонить в Москву председателю комиссии по похоронам — поэту Алексею Суркову и, дав мне его телефон, попросила меня позвонить ему несколько позднее. Нынешнему читателю могут показаться странными все эти звонки и увязки такого, казалось бы, ясного и нужного дела, — но на дворе стоял 1966 год — начало, как теперь говорят, эпохи застоя, и постановление ЦК партии об Ахматовой и Зощенко никем не было отменено. Приведу еще одну цитату из записи Лесмана, характеризующую то время: «Утром, когда Лев Васильевич Успенский собирался на кладбище, к нему пришел Гранин и заказал ему статью об Ахматовой от имени «Ленинградской правды». Лев Васильевич сел писать и не успел поехать на кладбище, а на другой день он спросил у литредактора «Ленинградской правды», почему не напечатана его статья, и получил ответ, что экстренная надобность в статье уже миновала». Такие были времена. Было сопротивление, но была и надежда. Спустя некоторое время, будучи в Москве, я рассказал Виктору Борисовичу Шкловскому историю съемок похорон Анны Андреевны и выразил сомнение, удастся ли сохранить отснятый материал. В ответ я услышал от него фразу, которая утешала меня последующие годы: —Думаю, что удастся, — сказал мне Шкловский, подергивая щеточкой усов, — Ахматова еще не святая, но уже праведница. Не посмеют. …Спустя час после разговора с Пуниной, я заказал из квартиры Арановича разговор с Москвой. Сурков уже был предупрежден. От имени Союза писателей он дал согласие на съемки. […]
Имея семьсот метров пленки, две камеры, звукозаписывающую аппаратуру, мы с Семеном Арановичем пошли в Никольский собор договариваться о съемках отпевания. Церковный староста сказал, что препятствий нам чинить не будут, но что нам надо позвонить в горисполком представителю комитета по делам культов и получить его разрешение. Иначе снимать нельзя. И дал телефон. Мы позвонили. Я отрекомендовался. Согласие было дано. Однако на прощанье был задан вопрос — сообщили ли мы о съемках в обком партии. Я отвечал, что нет, не сообщали, потому что мы снимаем для кинолетописи по заданию из Москвы. Собеседник вроде бы удовлетворился ответом. После чего мы распределили с Арановичем распорядок работы. Прибытие самолета из Москвы с «грузобагажом», как нам сказали в аэропорту, поедут снимать оба оператора и Семен. Назавтра я вместе с Аркадием Рейзентулом и Женей Беляевой иду в церковь, а Семен, отправив Толю Шафрана с синхронной камерой в Дом писателей, присоединяется к нам в церкви, и далее мы работаем вместе. Дождавшись возвращения съемочной группы, я увидел несколько обескураженные лица. — Что? Ничего не сняли? — Да нет, сняли. Метров шестьдесят. — А в чем дело? Выяснилось, что сын Анны Андреевны Лев Николаевич Гумилев резко протестовал против каких-либо съемок, выхватил и погнул фотокамеру со вспышкой у корреспондента ТАСС Карасева. Что-то надо было делать. Я поймал на студии нескольких друзей, в частности режиссера Людмилу Станукинас, и договорился с ними, что они пойдут завтра со мной в церковь и будут «сторожить» Гумилева. Мы понимали, что снимать все равно надо — для истории. Был уже поздний вечер. Готовясь к завтрашнему дню, мы все не уходили со студии. Рядом, в Никольском соборе, служили панихиду над гробом Ахматовой. Я появился на студии рано утром. Гробер, начальник производства, увидев меня, сказал: — Соломон Абрамович, зайдите ко мне. В кабинетике Гробера сидел оператор Гулин, в то время парторг студии. —Зачем вы идете снимать в церковь? — спросил Гробер. — Будут неприятности. Я ответил, что в церкви мы снимем всего несколько кадров, что это нужно для кинолетописи, а основные съемки будут в Союзе писателей и на кладбище в Комарове. — Ну, как знаете, — сказал Гробер. Хороший оператор Гулин, прозванный за свои сильные руки, крепко держащие кинокамеру, Человек-штатив, молчал. Гробер явно призвал его как будущего свидетеля. Пришел операторский ЗИС — открытая машина, приспособленная для съемок с движения. Ассистенты погрузили в него аппаратуру. С оператором Аркадием Рейзентулом мы пешком отправились в церковь. […] У собора уже стоит операторский ЗИС, выгружают аппаратуру. Звукооператор Женя Беляева — полная, доброжелательная и обычно смешливая женщина, на этот раз озабочена: — Как-то все пройдет? Я ее успокаиваю. Входим в собор. Много народу. Куда деть Беляеву с ее магнитофоном? Как пройти к гробу? Кто-то из церковных проводит нас через царские врата. Послышался шум. Верующие недовольны. Их можно понять. Рейзентул достает лесенку, с которой намеревается снимать. Включаем свет. Прошу Лялю Станукинас быть все время рядом с Гумилевым. Организационная суета не дает возможности ощутить торжественность церемонии. Все время встречаю знакомые лица — Иосиф Бродский, Евгений Рейн, моя матушка, моя жена, молоденький Сергей Соловьев, будущий кинорежиссер, Лесман и еще и еще… В тишине раздается грохот — это Рейзентул вместе с аппаратом валится со своей стремянки. Народ гудит. Стрекочет кинокамера. Из записи Лесмана: «Это вызвало сильное возмущение среди присутствующих, а сын Ахматовой Лев Николаевич Гумилев с яростью бросился к одному из операторов и вырвал из его рук аппарат, желая сломать. Но когда Лев Николаевич бросился к Шустеру, тот оказал ему сопротивление, закричав что-то вроде “убью”. Потом ко мне обратилась Аничка Каминская, стараясь убедить, что съемка в соборе является кощунством и оскорбляет чувства верующих. Но я ей разъяснил, что через много лет народ захочет знать, как хоронили Анну Андреевну, и никаких следов не останется. Поэтому, — сказал я, — Аничка должна погасить в себе чувство негодования. Что она и сделала». Кое-что, по-моему, в этой записи неточно. Конечно, не Гумилев бросился ко мне, а я к нему. И насчет крика «убью» не помню. Помню вот что: когда Лев Николаевич попытался мешать Рейзентулу снимать, я схватил его за руки и сказал: — Мы снимаем для истории. Поймите нас. Лев Николаевич возбужденно отвечал: — Я сам историк… я сам историк… А вы… В это же время ему что-то быстро говорила с присущим ей темпераментом Ляля Станукинас. Женю Беляеву совсем затолкали, и проходящий мимо священнослужитель, не меняя интонации, негромко сказал ей: — Про-ходите в алтарь… про-ходите в алтарь… …Мы вышли из собора и стали готовиться к съемке выноса тела. В это время я увидел, что ко мне бежит один из заместителей Гробера — Лев Фаустович и кричит: — Немедленно всем вернуться на студию! […]
Съемка гражданской панихиды была трудна и, думаю, невыразительна. Камера стояла так, что, когда в зал набились люди, их головы стали перекрывать объектив. Я забрался под камеру и, наклонив голову, силою рук раздвинул двух каких-то почтенных старух и так, постоянно прося у них прощения, простоял всю, показавшуюся мне бесконечно долгой, процедуру. Время от времени мы включали камеру. Из выступавших запомнил только академика Михаила Павловича Алексеева. Из соседнего помещения доносилась музыка моего товарища Бориса Тищенко к ахматовскому «Реквиему». Слова еще не звучали. Их как бы еще и не было. Потом мы вышли на улицу, и тут-то в оцеплении милиции, сдерживающей собравшийся народ, под шум мегафонных милицейских команд я смог наконец переговорить с Арановичем.
Когда я ушел в церковь, а Аранович еще оставался на студии, в приемной директора раздался тихий звонок так называемой «вертушки». Звонили из обкома партии, Соловцова еще не было, и секретарь позвала к телефону Гробера. — Ваши снимают в церкви? — раздался вопрос. — Нет, — автоматически ответил испуганный Гробер. И тут-то все началось. Как я узнал впоследствии, проверяли всех, взяли на учет все камеры, выезжавшие за ворота трех киностудий Ленинграда. […] Арановича задержали на студии и не выпускали из кабинета подошедшего к этому времени Соловцова. Всех, ушедших на съемки в церковь, решили немедленно вернуть. Когда Арановичу удалось выскользнуть из кабинета, он побежал в церковь, но не застав нас, бросился в Союз писателей. Мы решили отправить уже ненужную синхронную камеру вместе с Женей Беляевой на студию. Как я узнал потом, Беляеву встретил у дверей студии начальник первого отдела Михаил Николаевич Красовицкий и тут же отобрал кассеты с записью звука. С той поры их никто не видел и не слышал. Мы же продолжали снимать двумя несинхронными камерами. Вначале вынос гроба из Дома писателя, затем, включившись в колонну, возглавляемую милицейскими машинами, из открытого ЗИСа. Процессия понеслась через Кировский мост. Посередине моста она вдруг остановилась; потом головная машина развернулась, и мы поехали в противоположном направлении — на Фонтанку, к Шереметевскому дворцу, где Анна Андреевна прожила большую часть своей жизни. Постояли. И опять поехали через Кировский мост к ее последнему обиталищу — писательскому дому на улице Ленина. Затем мчались по Приморскому шоссе на кладбище в поселок Комарово, в котором в летние месяцы многие годы жила Анна Андреевна. Наша машина то отставала, то обгоняла траурную процессию — мы продолжали снимать.
На исходе дня толпа людей заполнила скромное поселковое кладбище. Всех выступавших не помню — кажется, говорил Арсений Тарковский, затем передавал официальные соболезнования от московских писателей Сергей Михалков. Мы разделились — Аранович работал с Шафраном, я — с Рейзентулом. Толпа разводила нас, и мы изъяснялись знаками. Помню, что когда гроб опускали в землю, я рукой попросил Рейзентула сделать панораму от могилы вверх — к верхушкам сосен и обратно. Кажется, такой кадр есть. Потом стояли у свежей могилы. Темнело. Возвращались в каком-то автобусе, в открытой машине ехать было уже холодно. Когда проезжали Сестрорецк, вспомнилось, что рядом на кладбище лежит Михаил Зощенко.
Словно дальнему голосу внемлю, А вокруг ничего, никого. В эту черную добрую землю Вы положите тело его. Ни гранит, ни плакучая ива Прах легчайший не осенят, Только ветры морские с залива, Чтоб оплакать его, прилетят…
Анна Андреевна писала эти строки летом 1958 года в Комарове. […] Источник: http://www.nasledie-rus.ru/podshivka/77016.php
Анна Андреевна Ахматова умерла 5 марта 1966 года — по трагической иронии судьбы, в тот же день, тринадцатью годами ранее, умер человек, с именем которого связано почти все самое черное в ее жизни — советский диктатор Сталин. Она не захотела покинуть революционную Россию, осталась на родине… Еще не закончилась гражданская война, а новая, большевистская власть расправилась с одним из замечательнейших поэтов Серебряного века и отцом ее ребенка Николаем Степановичем Гумилевым. Его памяти посвящены ахматовские строки: «Не бывать тебе в живых, / Со снегу не встать. / Двадцать восемь штыковых, / Огнестрельных пять. // Горькую обновушку / Другу шила я. / Любит, любит кровушку / Русская земля»… Затем почти на два десятилетия затянувшееся публичное молчание: вопрос о печатании-непечатании стихов Анны Андреевны решался на уровне ЦК ВКП(б)!.. Партийное негласное распоряжение выполнялось беспрекословно, да и бушевали вовсю разные РАППЫ-ПРОЛЕТКУЛЬТЫ, вооруженные «самой передовой» идеологией и теорией об истинных пролетарских писателях, сочувствующих и попутчиках. Ахматова не вписывалась ни в какую из этих вымороченных категорий; на ее глазах исчезал Серебряный век, начиналось время «образованщины». Погибли Есенин и Маяковский, мотался по стране неприкаянный Мандельштам, и Анна Андреевна все больше убеждалась, что, по ее словам, «искусство отменили». Мандельштаму дали доходить «на воле», вернув из воронежской ссылки, до мая тридцать восьмого; из сверстников и спутников остались невредимыми Михаил Лозинский и Борис Пастернак… Но вот сына, Льва Гумилева, и мужа, Николая Пунина, Анне Андреевне спасти от расправы не удалось. Пунин погиб, а Лев Николаевич провел в ГУЛАГе более пятнадцати лет. Именно в эти, самые страшные для нее годы, Ахматова создает бессмертный цикл-документ «Реквием», в котором стихи, посвященные сыну, вырастают до эпического обобщения. В предваряющих цикл строках звучит давний мотив: «Нет, и не под чуждым небосводом, / И не под защитой чуждых крыл, — / Я была тогда с моим народом / Там, где мой народ, к несчастью, был». Тогда же задумывается и пишется «Поэма без героя» — попытка воссоздать утраченную историческую память и культуру, сделать «бег времени» непрерывным. Работа над ней продлится вплоть до последних дней Ахматовой. В попытках спасти сына, отстраняясь от позорного постановления ЦК ВКП(б) 1946 года о журналах «Звезда» и «Ленинград», где ее назвали салонной барынькой, Анна Андреевна решилась на отчаянный шаг — чужим, совсем не ахматовским, но «общесоветским» рифмованным языком она мучительно обращается к «великому вождю», создает книгу «Слава миру»…. Не помогло… Все советские годы Анна Ахматова, по ее же собственному выражению, была «беспастушной». Несмотря на то, что ее окружали многие и многие замечательные и любящие люди, Анна Андреевна мало кого из этого множества могла назвать настоящими друзьями. Тем более мужественно она переносила все невзгоды, потери, разлуки и гибели, выпавшие на ее долю. Она действительно не отделяла свою жизнь от жизни народа, прекрасно понимая, где и в какое время ей пришлось вместе с ним «быть». И дружба с Иосифом Бродским в дни его молодости стала во многом последним отдохновением, данным этой великой и мужественной женщине. Русская поэзия не исчезла, Бродский, как благодарный ахматовский последователь, завершил двадцатый век, получив высшую награду — Нобелевскую премию… Анна Ахматова умерла, так и не «удостоившись» официального признания коммунистических властей. Бродский вспоминал о дне похорон: «Ленинградские власти предоставлению места на одном из городских кладбищ противились, власти курортного района — в чьем ведении Комарово находится — тоже были решительно против. Никто не хотел давать разрешение, все упирались; начались бесконечные переговоры. Сильно помогла мне З.Б.Томашевская — она знала людей, которые могли в этом деле поспособствовать — архитекторов и так далее. Тело Ахматовой было уже в соборе св. Николы, ее уже отпевали, а я еще стоял на комаровском кладбище, не зная — будут ее хоронить тут или нет. Про это и вспоминать даже тяжело. Как только сказали, что разрешение получено и землекопы получили по бутылке, мы прыгнули в машину и помчались в Ленинград. Мы еще застали отпевание. Вокруг были кордоны милиции, а в соборе Лева метался и выдергивал пленку из фотоаппаратов у снимающих. Потом Ахматову повезли в Союз писателей, на гражданскую панихиду, а оттуда в Комарово... В общем, похороны — да и все последующие события — были во всех отношениях мрачной историей»… Ныне для русской поэзии, для отечественной культуры Комарово — одно из самых драгоценных мест. Ибо поэзия Анны Андреевны Ахматовой, освобожденная от страшных вывертов сталинского двадцатого века, принадлежит новому, двадцать первому, и новым, свободным поколениям русских читателей. От редакции: автор этой зарисовки — Евгений Сухарев, харьковский поэт и эссеист, член Международного фонда им. Бориса Чичибабина, лауреат конкурса РНЛС (2004), автор четырех изданных книг стихотворений — «Дом ко дню» (Харьков, КРОК, 1996), «Сага» (Харьков, КРОК, 1998), «Седьмой трамвай» (Харьков, ТО «Эксклюзив», 2002), «Комментарий» (Харьков, ТО «Эксклюзив», 2005). Подробнее о знаменитом Постановлении Оргбюро ЦК ВКП(б) от 14 августа 1946 года можно прочитать в рубрике «Против течения», в очерке VlV под названием «Как "забанили" Ахматову и Зощенко. Постановление 1946 года». Источник: http://www.vilavi.ru/pod/100306/100306.shtml |
| Ранее |
|
Деград



