Читателя с тонкой христианской ориентацией, раскрывшего том И.Бродского на одиозных строках “Назарею б та страсть, воистину бы воскрес…” (“Горение”, 1981) или “А тот камень-кость, гвоздь моей красы, – он скучает по вам с мезозоя, псы, от него в веках борозда длинней, чем у вас с вечной жизнью с кадилом в ней…” (“Aere perennius”, 1995), – мне хотелось бы предостеречь от стремительного захлопывания створок книги и оставления сего моллюска в одиночестве – быть может, вечном.
“Во первых строках” своего сообщения, рискуя попасть в те самые “простодушные батюшки”, которые “умиляются над Рождественскими стихами и прочими “религиозными” стихотворениями” Бродского (цитирую Н.Славянского, “Твердая вещь”, “Новый мир”, №9, 1997), я намерен утверждать: Иосиф Бродский – поэт определенно христианский, даже – явственно христианский. По ходу дела замечу, что категории “умиление” и “простодушие” есть весьма высокие духовные ориентиры. И я бы поостерегся – так походя, свысока пинать их. Ибо “высота”, с которой мы иногда взираем, слишком часто оборачивается духовной бездной.
Только прочтя у Бродского все или премногое, понимаешь, насколько глубоко укоренена христианская традиция в человеке, достаточно часто употреблявшем в поэтической лексике такие фундаментальные понятия, как гордыня, смирение, грех; писавшем – Дух, Отец, Сын, Крестное Знамение, Святая Мария, Господня Слава, Господне Лето, Спаситель – только с заглавных букв, часто пользовавшимся для пространственно-временно-духовных привязок христианской терминологией. Великий Пост, Чистый Четверг, Страстная. Причем, последнее писано именно в таком виде, без определяющего – “неделя”: “Страстная. Ночь. Апрель. Страстная…” (“Разговор с небожителем”). Или “в пятый день Страстной ты сидела…” (“Речь о пролитом молоке”). Это свидетельствует не о стороннем, а внутреннем пребывании в Христианстве. Интересно качание Бродского между католической и русской православной лексиками, смешение их. “Шприц повесят вместо иконы Спасителя и Святой Марии”. Православный человек никогда не сказал бы “Святая Мария”, а – скорее, как в молитве – “Богородице, Дево, Радуйся, Благодатная Марие”. Однако сразу же находишь у Бродского православное словоупотребление в “католическом”, казалось бы, стихотворении “В Паланге”: “…колокола костела. А внутри на муки Сына смотрит Богоматерь” (курсив здесь и далее мой – С.М.). И родственное, теплое соединение Святого Казимира с Чудотворным Николой в “Литовском ноктюрне”. В “Большой элегии Джону Донну” Бродский говорит об уснувших Рае и Аде, ничего, однако, не сообщая при этом о Чистилище, выдавая себя как не-католика.
Мы знаем блистательные речи-статьи Бродского (“Напутствие” и др.), обращенные к молодежи, в которых он глубоко, проникновенно и причастно говорит о нравственных заповедях, опираясь именно на христианский опыт человечества и свой индивидуальный.
Однако более всего потрясают собранные воедино стихотворения Бродского, связанные с Рождественской или, точнее, Новозаветной темой. В любом случае, стихи эти – основы и опоры, вехи, которые, как минимум, не могут быть оставлены без внимания, а, как максимум, я настаиваю именно на нем, говорят нам важнейшее об Иосифе Бродском – поэте, человеке. Тем более, что стихотворения из этого корпуса, как альфа и омега, в известном смысле обрамляют его творчество. Разрыв между первым, “Рождество 1963 года”, и последним, “Бегство в Египет (II) ” (1995), составляет более трех десятков лет, что, в сущности, в значительной мере исчерпывает весь творческий период поэта.
РОЖДЕСТВО 1963 ГОДА
Спаситель родился
в лютую стужу.
В пустыне пылали пастушьи костры.
Буран бушевал и выматывал душу
из бедных царей, доставлявших дары.
Верблюды вздымали лохматые ноги.
Был ветер.
Звезда, пламенея в ночи,
смотрела, как трех караванов дороги
сходились в пещеру Христа, как лучи.
1963-1964
“Бегство в Египет (II)” датировано декабрем 1995, т.е., зная обыкновение Бродского писать Новозаветные стихи, как правило, в католическое Рождество, выясняем, что этот текст написан за месяц до смерти автора. Это вообще – предпоследнее (!) из известных нам стихотворений Бродского.
БЕГСТВО В ЕГИПЕТ (II)
В пещере (какой ни на есть, а кров!
Надежней суммы прямых углов!)
в пещере им было тепло втроем;
пахло соломою и тряпьем.
Соломенною была постель.
Снаружи молола песок метель.
И, вспоминая ее помол,
Спросонья ворочались мул и вол.
Мария молилась; костер гудел.
Иосиф, насупясь, в огонь глядел.
Младенец, будучи слишком мал
чтоб делать что-то еще, дремал.
Еще один день позади – с его
тревогами, страхами; с “о-го-го”
Ирода, выславшего войска;
и ближе еще на один – века.
Спокойно им было в ту ночь втроем.
Дым устремлялся в дверной проем,
чтоб не тревожить их. Только мул
во сне (или вол) тяжело вздохнул.
Звезда глядела через порог.
Единственным среди них, кто мог
знать, что взгляд ее означал,
был младенец; но он молчал.
Декабрь 1995
Все Новозаветные стихотворения следовало бы, очень хотелось бы привести целиком, они приобретают новое суммарное качество при последовательном прочтении, но, за неимением возможности, я лишь перечислю их, оставив собственно текстовый блок в виде приложения к своим заметкам.
Итак (за исключением двух приведенных выше): “Звезда блестит, но ты далека…” (май 1964), “На отъезд гостя” (декабрь 1964), “1 января 1965 года” (“Волхвы забудут адрес твой…”), “…И Тебя в Вифлеемской вечерней толпе…” (1969-1970?), “24 декабря 1971 года” (“В Рождество все немного волхвы…”, январь 1972), “Снег идет, оставляя весь мир в меньшинстве…” (1980), “Замерзший кисельный берег. Прячущий в молоке…” (декабрь 1985), “Рождественская звезда” (“В холодную пору, в местности, привычной скорей к жаре…”, 24 декабря 1987), “Бегство в Египет” (“…погонщик возник неизвестно откуда…”, 25 декабря 1988), “Представь, чиркнув спичкой, тот вечер в пещере…” (1989), “Не важно, что было вокруг, и не важно…” (25 декабря 1990), “PRESEPIO” (декабрь 1991), “Колыбельная” (“Родила тебя в пустыне…”, декабрь 1992), “25.XII.1993” (“Что нужно для чуда? Кожух овчара…”), “В воздухе – сильный мороз и хвоя…” (декабрь 1994).
Уже одно перечисление стихотворений вызывает известное волнение. В этот список я бы добавил, конечно же, “Сретенье” (март 1997) и “Помнишь свалку вещей на железном стуле…” (1978). Речь о последнем пойдет чуть ниже. И – никак нельзя обойтись без текста, завершающего “Натюрморт” (1971) – “Мать говорит Христу...” Это, пожалуй, единственное сочинение, где автор представляет “взрослого” Христа, не-Младенца.
Удивляют, если не потрясают систематичность, постоянство, с которыми поэт обращался к этой теме. Собственно, календарная цикличность известна и определенна. Однако не все пишут стихи к Рождеству, да еще столь часто и устойчиво, не боясь повторений себя и в себе, банальностей, тавтологий и общих мест, будто извлекая из себя каждый раз Господню константу, словно осуществляющую себя и личность в Мире, делающую личность личностью именно в этом частно-общем, где уже не надо самоутверждаться. Эти стихи – вне умствований, потуг, кривляний и эпатажа – приоткрывают подлинное, сокровенное, благодатное, забитое рваной и жестокой одинокой жизнью ли, преодолеваемыми, но неизбывными обидами ли, претензиями.
Эти стихи – как пробивающиеся сквозь грязный снег подснежники из детской новогодней сказки. Здесь уже – не до поиска особливых, горделивых словес. Здесь все задано и предписано до нас, свыше: пещера, хлев, солома, верблюды, овцы, мул (или вол), мать и отец, звезда, Младенец. Именно Младенец центростремительно втягивает в круг притяжения и стихотворение “Сретенье”. Полагаю, это одни из самых лучших строк в русской христианской литературе:
Он шел умирать. И не в уличный гул
он, дверь отворивши руками, шагнул,
но в глухонемые владения смерти.
Он шел по пространству, лишенному тверди,
он слышал, что время утратило звук.
И образ Младенца с сияньем вокруг
пушистого темени смертной тропою
душа Симеона несла пред собою
как некий светильник, в ту черную тьму,
в которой дотоле еще никому
дорогу себе озарять не случалось.
Светильник светил, и тропа расширялась.
Очевидно в Новозаветных стихах Бродского присутствие (вплоть до повторения названия “Рождественская звезда”) Пастернака, которого Иосиф Александрович почему-то не помянул в Нобелевской лекции. (К слову, не единожды вообще у Бродского встречаются рифмы “платья – объятья”, “объятья – распятья”, что тоже есть очевидный диалог с предшественником.) Кажется, в Рождественских стихах Бродский так и не сдвигается с точки обзора, где его (нас) оставил Борис Пастернак со стихами Юрия Живаго.
Этот жизненный (наджизненный) рефрен, эта накатывающая ежегодная волна – самодостаточно замирает у сердца в предвосхищении Рождества, праздничного чуда, которое обозначено, но не проявлено в ужасе трагедии, муке распятия, страдании на Кресте.
Или Бродский не “не может”, а не хочет отдаляться от столь много обещающей точки миробытия, столь много – лучезарно – обещающей, еще не реализованной до конца. Ибо потенция есть обещание жизни, а воплощение есть смерть, уже миновавшая “все яблоки, все золотые шары”.
Там, где младенчество, где рядом – щека к щеке, умиление, где пушок – нимбом – вокруг дитячей макушки, там – тепло, домашне, навсегда уютно, несмотря на щели, в которые сочится внешний хлад. (Но ведь и звезда, “взгляд Отца” – оттуда же, из вечного вселенского холода! Заметим и это).
Разрываемый земным, эгоцентрическим, Бродский в последний период участил свои обращения к теме Младенца. Возможно, к этому подвигали семейные реальности, стало сбываться чаемое всю жизнь триединство, отсюда – упрочение в стихах еще двух фигур: матери и отца.
“Теперь их было трое…”
Позволительно ли высказать предположение, что Бродскому всегда хотелось – задержаться насовсем в Вифлеемской пещере: с Младенцем ли (сердечно), младенцем ли. Если отождествлять себя (любую личность) с Тем Младенцем, то, видимо, Бродский хотел бы всегда оставаться в не-реализации жизни – как умирания, страдания. Дар Рождества – это уже баснословно много, и хочется его длить и длить, прячась в любящих, лелеющих родительских ладонях. За пределами пещеры, начиная уже с бегства в Египет, жизнь становится перед нами во всей полноте страдания, а будет ли за ней воскресение – наше аналитичное, рациональное эго не в состоянии предвосхитить из-за дефицита личностной нежности, недополученности любви.
Поверить в воскресение оказывается почти невозможным.
II
Нас начинает и не прекращает терзать страх перед небытием. Тем больший, чем большее значение мы придаем своему “Я”.
Навсегда расстаемся с тобой, дружок.
Нарисуй на бумаге простой кружок.
Это буду я: ничего внутри.
Посмотри на него – потом сотри.
Или: “Наверно, после смерти – пустота. И вероятнее, и хуже Ада”.
“Никто”, “человек в плаще”, боится “растворения ни во что”, уничижаясь паче самой великой гордыни, выталкивая в качестве образа окончательного умаления, окончательного “ничего” – например, образ мыши. Это один из сквозных, неотступных у Бродского образов, начиная с северных стихов, где “мышь-полевка приветствует меня свистом” и “Большой элегии Джону Донну”, где уснуло все, и лишь “звезда сверкает. Мышь идет с повинной”. “…И при слове “грядущее” из русского языка выбегают мыши и всей оравой отгрызают от лакомого куска памяти…”
“Как мышь в золе, где хуже мыши глодал петит родного словаря…” Самый сильный образ организации пустоты, “ничего”, отсутствия – пожалуй, в стихотворении “Торс” (1972), где речь идет о “конце вещей”, где гигантский мраморный торс (то, что осталось от почти что нетленной фигуры) есть символ утраты вообще:
И останется торс, безымянная сумма мышц.
Через тысячу лет живущая в нише мышь с
ломаным ногтем, не одолев гранит,
выйдя однажды вечером, пискнув, просеменит
через дорогу, чтоб не прийти в нору
в полночь. Ни поутру.
Скорбь о грядущем небытии говорит если не о неверии, то о маловерии. Усомнившееся рацио требует доказательств, подтверждения Божия бытия, удостоверения в Воскресении и воскресении.
Фома же, один из двенадцати, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему: мы видели Господа. Но он сказал им: если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю. После восьми дней опять были в доме ученики Его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди их и сказал: мир вам! Потом говорит Фоме: подай перст твой сюда и посмотри руки Мои; подай руку твою и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, но верующим. Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог мой! Иисус говорит ему: ты поверил, потому что увидел Меня: блаженны не видевшие и уверовавшие. (Евангелие от Иоанна, XX: 24-29.)
Почему я говорю именно о Фоме? Потому что именно он – из двенадцати – просил у Господа материальных доказательств. И любовь Господа такова, что именно Фоме, просившему таких доказательств, они были даны.
В христианской литературе уже известны два Евангелия от Фомы: апокриф II века о детстве Иисуса (так называемое “Евангелие детства” или, полностью, “Сказание Фомы, израильского философа, о детстве Христа” и так называемое “пятое Евангелие” (относительно канонического Четвероевангелия), дошедшее до нас во II кодексе Наг-Хаммади. Иосиф Бродский, Близнец по зодиакальному гороскопу, также есть, по моему разумению, усомнившийся Фома-Благовестник. Общность же Евангелия Бродского со вторым Евангелием от Фомы – в том, что центральные темы у обоих авторов – проблема жизни и смерти, раскрытия и утверждения собственного “Я” индивида.
Еще одну неожиданную параллель я обнаружил в письме В.В.Розанова к П.П.Перцеву (лето 1918), отправленном автором незадолго до смерти. Тот самый Розанов, который качался меж двумя Заветами, Ветхим и Новым, ужасаясь и ужасая своим экстремизмом:
Я нисколько не “против Христа”, а вот моя мысль: “не происходит ли поразительный атеизм Европы, поразительная утрата чувства Бога в христианстве у христиан, именно оттого что они суть христиане, а не просто “божники”, “Божьи люди” etc.; от мотива, что этот атеизм – не феноменален, а эссенциален, “в существе дела зарыт”, “в зерне Христианства скрыт…” и идет от таинственной беззерности Христа, что Христос в сущности не имел фалла, был лишен фалла, что он был “в половой организации” ни то ни се, “Бог знает что”.
Здесь – прямая перекличка с вышепроцитированным текстом Бродского о борозде в веках, прочерченной “твердой вещью”, читай – фаллосом.
…Ведь страшно и исключительно, что в истории конечно не бог победил, наш “сотворивший Вселенную, обыкновенный Бог”, а победил и пришел в мир с уверенностью победы – Христос и Дух и Бог… Что над Вселенною открылось еще что-то такое другое, не – мир, а – “больше мира, больше Бога”. Ну – я не знаю: но явно – мир распадается, разлагается, испепеляется. “Конец мира”, и вот явно для Конца-то мира и пришел Христос. “Мужайтесь, ныне я победил мир” (слова Христа). Это так страшно, так ново, эта особая космогония Христа или точнее полная а`космичность Его, что мы можем только припомнить, что в предчувствиях всех народов и религий действительно полагается, что “миру должен быть конец”, что “мир несовершен”…
…Могила. Вечная ночь. Христос уносит нас в какую-то Вечную Ночь, где мы будем “с Ним наедине”. Но я просто пугаюсь, в смертельном ужасе, и говорю: – Я НЕ ХОЧУ. И прошусь “на прежнюю землю”, “нашу”… По Христу это по-видимому “преходящее”, “тень”, “мнимость”… Может быть в смерти – высшее счастье? В конце концов самое-то страшное, что мы все действительно умираем, и не понимаем, “почему умираем”, почему “индивидуальность не вечна”. В конце концов еще более страшное в том, что Бог нашего мира, fall`ический, конечно, Бог – и должен быть побежден…
Может быть, качели Бродского есть лишь подтверждение “страшной” мысли о неизбежности Апокалипсиса? И не будут ли нам руководителями в понимании такого страха-размышления, такого параллелизма – слова отца Павла Флоренского о Василии Розанове:Существо его – Богоборческое: он не приемлет ни страданий, ни греха, ни лишений, ни смерти, ему не надо искупления, не надо и воскресения, ибо тайная его мысль – вечно жить, и иначе он не воспринимает мира… Это – стихия хаоса, мятущаяся, вечномятущаяся, не признающего никакой себе грани, – хаоса не понявшего и не умеющего понять своей конечности, своей условности, своей жалкости вне Бога.
IIІ
Моллюск, запершись в ракушке своего эго, лелеет в себе детскую непреходящую обиду, которая складывается на фундаменте двух обид, перерастая в единую, главную обиду, и через нее – в претензию. В первую очередь – к Господу. Две первообиды Бродского – не уходили в течение всей жизни. Велико число стихов с известными инициалами в посвящении, как бы сказать, “к вечной возлюбленной”, женщине. Столь же неотъемлемы – обращения ко второй “вечной возлюбленной” – Родине, Империи, также отторгнувшей, не понявшей и не принявшей любви. Как раз отсюда произросла обида на Господа, который отвращает младенца от начального родительского тепла и приводит эго к Кресту, к смерти. Под понятием “империя” я бы в данном случае понимал, разумеется, не советский строй, не тоталитарную систему подавления, а ту огромную общность, которая дала поэту язык и культуру, ту самую общность, к которой так хотел всегда принадлежать и Мандельштам (быть частью большого и целого), ту общность, к которой, по Достоевскому, стремится любой индивид: я хочу, чтобы все поклонялись тому, чему поклоняюсь я…
Три фундаментальных истока – Господь, женщина, родина – слились в единое – в стихотворении 1978 года:
Пора забыть верблюжий этот гам
И белый дом на улице Жуковской…
Анна Ахматова
Помнишь свалку вещей на железном стуле,
то, как ты подпевала бездумному “во саду ли,
в огороде”, бренчавшему вечером за стеною;
окно, занавешенное выстиранной простынею?
Непроходимость двора из-за сугробов, щели,
куда задувало не хуже, чем в той пещере,
преграждали доступ царям, пастухам, животным,
оставляя нас греться теплом животным,
да армейской шинелью. Что напевала вьюга
переходящим за полночь в сны друг друга,
ни пружиной не скрипнув, ни половицей,
неповторимо ни голосом наяву, ни птицей,
прилетавшей из Ялты. Настоящее пламя
пожирало внутренности игрушечного аэроплана
и центральный орган державы плоской,
где китайская грамота смешана с речью польской.
Не отдернуть руки, не избежать ожога,
измеряя градус угла чужого
в геометрии бедных, чей треугольник кратный
увенчан пыльной слезой стоваттной.
Знаешь, когда зима тревожит бор Красноносом,
когда торжество крестьянина под вопросом,
сказуемое, ведомое подлежащим,
уходит в прошедшее время, жертвуя настоящим,
от грамматики новой на сердце пряча
окончания шепота, крика, плача.
Может быть, вообще следует сделать вывод о личностных особенностях любовного отношения Бродского к трем вышеперечисленным адресатам. Очевидно – все три любови имеют один характер, единую корневую систему по причине единого истока – личности поэта. Эти три любови, сливаясь в одно, неразделимо личностное, маятниково переходят в декларируемую ли, плохо или удачно скрываемую обиду, что так понятно по-человечески, или, как сказал бы сам Иосиф Александрович, “антропологически”.
Однако Господь за обидчивость (неотработанную, непреодоленную бесконечным душевным усильем) все-таки наказывает. Чем же? Одиночеством? Разрушением сердца?
Только от этой точки, от обиды, – можно рассмотреть претензию Бродского к Христианству, первей всего – к православию.
Показательна и основательна разработка Бродским этого пункта в путевой прозе 1985 года “Путешествие в Стамбул”. Здесь он прямо-таки начинает с “высокой ноты” Фомы, с сарказма даже:
Принцип линейности, отдавая себе отчет в ощущении известной безответственности к прошлому, с линейным этим существованием сопряженной, стремится уравновесить ощущение это детальной разработкой будущего. Результатом являются либо “пророчество задним числом” а ля разговоры Анхиса у Виргилия, либо социальный утопизм, либо идея вечной жизни, т.е. Христианство.
С заглавной, с заглавной буквы Бродский величает здесь Христианство. И как он мог бы поступать иначе?
Не оттого ли Христианство и восторжествовало, что давало цель, оправдывающую средства, т.е. действительность: что временно – т.е. на всю жизнь – избавляло от ответственности… Или лучше: не совпадало ли оно с нуждами чисто имперскими? Ибо одной оплатой легионера (смысл карьеры которого – в выслуге лет, демобилизации и оседлости) не заставишь сняться с места. Его необходимо еще и воодушевить… Следствие редко способно взглянуть на свою причину с одобрением. Еще менее способно оно причину в чем-либо заподозрить. Отношения между следствием и причиной, как правило, лишены рационалистического, аналитического элемента. Как правило, они тавтологичны и, в лучшем случае, окрашены воодушевлением последнего к первому.
Вот где Бродский выводит “недостаток” Христианства – в недостаточности “рационального, аналитического”. Вот – претензия выросшего ребенка, наивного, все еще остающегося инфантильным, но мнящим себя зрелым мужем, поскольку жизнь к сорока, а, тем паче, к сорока пяти годам “оказалась длинной”, поскольку мы якобы накоротке с античностью, поскольку мы мним, что мир познаваем. И здесь же Бродский говорит, самораскрываясь: “Снобизм? Но он есть лишь форма отчаяния”.
Постоянное подтрунивание над Христианством, только над ним, именно над ним – свидетельствует о глубочайшей укорененности Бродского в Христианстве же. Но за всей этой пикировкой, над ней – как бы проступает снисходительная улыбка Господа, по-доброму наблюдающего за петушиными, мальчишьими ужимками дитяти. Возлюбленного? “Тебе – можно. Все равно ведь степень отпущенного тебе и сделанного тобой многократно превысит и отменит твой наскок”. В отрицании есть вторичность, зависимость от предмета отрицания, непременное присутствие Того, с Кем ты хочешь бороться, тягаться, с Кем ты наивно вступаешь в оппозицию, забывая о несоизмеримости величин.
Абсолютная власть, автократия синонимична, увы, единобожию.
Потрясающее саморазоблачительное “увы”, с головой выдающее монотеиста, да, к тому ж, приверженца Империи, рационалиста, иррационально любящего иррациональную Родину.
Если можно представить себе человека непредвзятого, то ему, из одного только инстинкта самосохранения исходя, политеизм должен быть куда симпатичнее монотеизма.
И – блестящий пассаж:
Такого человека нет, его и Диоген днем с огнем не нашел бы. Не стоит, наверно, называть вещи своими именами, но демократическое государство есть на самом деле историческое торжество идолопоклонства над Христианством.
И здесь – саднит обида, понятная и вполне по-человечески нами разделяемая, – на возлюбленную Империю. Иррациональное соединение в выводе тоталитарного государства из Христианства. И – авторская несвобода, точнее, неосвобождение, не отпускающее от этих вечных уз. И вновь, и всегда Бродский величает Христианство с заглавной: так в старых семьях обращались и обращаются к матери исключительно “на Вы”.
Не Оттоманская ли мы теперь империя – по площади, по военной мощи, по угрозе для мира Западного. И не больше ли наша угроза оттого, что исходит она от обвосточившегося до неузнаваемости – нет! до узнаваемости! – Христианства? (Выделено мной – С.М.)
А вот – об изгнанничестве, о личном:
Если в Афинах Сократ был судим открытым судом, имел возможность произнести речь – целых три! – в свою защиту, в Исфагане или, скажем, в Багдаде такого Сократа просто бы посадили на кол – или содрали бы с него живьем кожу – и дело с концом, и не было бы вам ни диалогов Платона, ни неоплатонизма, ни всего прочего…” Трудно человеку становиться в ряд изгнанников, изгоев, отторгнутых: Гомер, Сократ, Данте, Петрарка… А вот и снова вопрошания – на сей раз о неприятии Креста: “Кто знает, не объясняется ли конечное поражение иконоклазма сознанием недостаточности креста как символа и необхо-димостью визуального соперничества с антифигуративным искусством Ислама?
С недопроявленностью духовной работы, с саморазрушительным результатом уязвлен-ного эго выходит Бродский из этого текста и замирает, фиксируется в этом состоянии:
..смирение – достигается всегда за счет немого бессилия жертв истории – прошлых, настоящих, будущих; ибо оно является эхом бессилия миллионов. И если вы уже не в том возрасте, когда можно вытащить из ножен меч или вскараб-каться на трибуну, чтобы проорать морю голов о своем отвращении к прошедшему, происходящему и имеющему произойти, если таковая трибуна отсутствует или если таковое море пересохло, – все-таки остается еще лицо и губы, по которым может еще скользнуть вызванная открывающейся как мыслимому, так и ничем не вооруженному взору картиной, улыбка презрения”.
Трагедия Бродского есть трагедия одиночества, эго, отринутого внешним миром, не находящего поэтому спасения в общем. Вспомним его тезис из Нобелевской лекции о возможности индивидуального спасения и невозможности – общего, коллективного. Но, в конце концов, эта установка не противоречит Евангелию, а подтверждает его: “много званых, но мало избранных”.
Не преодолев обиды, Бродский впадает в еще больший грех: осуждение. О котором сказано: не судите, да не судимы будете. Осведомленный о том, что есть грех, но преступающий заповедь, знает, что будет непременно наказан. И, быть может, страх толкает его к юродству.
IV
Невыносимость индивидуального бремени иногда заставляет Бродского прибегать как бы к методу “от противного”. Тогда он надевает на себя маску юродивого. Или на самом деле в таких состояниях самоотождествляется с юродивым, уже не делая различия. Тогда – держись читатель! Тогда – нет тормозов, точней, декларируется их отсутствие, все покрывается любой хулой. Тогда – “нет аборта без херувима”, или – о душе – “преврати эту вещь в трясину, которой Святому Духу, Отцу и Сыну не разгрести”, тогда – “и путешественник в платье для почивших за-ради Отца, Сына и Святого Духа”, тогда – “шастающий, как Христос по синей глади жук-плавунец”. Ирония – (отрицание ли?) на уровне единичного слова, попытка понижения (?) пафоса, заземления.
Это – вставание на цыпочки, это – попытка уязвления Создателя – с наивной целью объявиться, заставить Его раскрыть Себя. Детская игра в “Апанаса” с завязываньем глаз, когда водящий пытается поймать, ухватить то, чего не видит, но в наличии чего (Кого) уверен. Подначивание и выщипывание из Господней бороды по волоску: больно ль Тебе, Господи? А так? Больнее, обидней? Человечий наив, надсада, горечь, вызывающие нашу жалость к говорящему тем большую, чем сильнее срыв: “А моя, как та мадонна, не желает без гондона”.
Воистину: “слишком широк человек, я бы сузил”. Широка ты, русская душа, доходящая до запредела в выворачивании себя наизнанку. А русская еврейская душа – широка в квадрате.
Но ведь юродствующему вольно выйти на люди, как сказали бы слободские крестьяне, “в штанах – сраным наверх”? Вольно ль?
Виснет ли брань на вороте? Думается, да. Так виснет, что мельничным жерновом в омут тянет. Все может зачесться: и уличная брань в адрес бывш. (читай – все-таки и опять-таки – “вечной”) возлюбленной, и виртуозное препарирование пушкинского “Я вас любил…”, столь виртуозное, столь – по Гамбургскому – композиционному – высшему счету, что не сразу поймешь: созидание это иль разрушение.
Тщетный – полагает от Господа мгновенной ответной реакции, человеческой же. С замиранием сердца: изрыгну брань – ан все равно ничего не будет! Не вдарит молонья с небес – промеж глаз, не разобьет паралич. Нет, не ударила сей раз, и язык не отсох, не вывалился в язвах из пасти. А может, хулитель знает, что не ударит? Ведь на всяк случай слово “мадонна” пишет здесь не с заглавной буквы. Мало ль? Да и вообще, он наверняка читал:
Посему говорю вам: всякий грех и хула простятся человекам, а хула на Духа не простится человекам; Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему; если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем. (Евангелие от Матфея, XIII:31-32.)
Следовательно, хула юродивого обращена не к Богу, а к человеку, то есть ко мне, читателю. С целью уязвления? Однако и эта цель вряд ли достигается. Напротив. Провоцируется бес-оконечное сострадание к этому мятущемуся одиночеству, лишенцу нежности. Особенно, когда читаешь: “Жалость уместней Господней Славы в мире, где души живут лишь в теле”.
V
Позитивизм высказывания Иосифа Бродского: “Истина заключается в том, что истины нет”, говорит как раз о прямо противоположном: о взыскании и наличии Истины. Иначе откуда взялись бы силы у Фомы прорваться душой к приятию Воскресения и выдать такую строку: “Волшебный фонарь Христовой пасхи” (выделено мной – С.М.).
Душа, которой “для чуда” нужен “кожух овчара”, знает о мире нечто, знает, что
Лучше стареть в деревне. Даже живя отдельной
жизнью, там различишь нательный
крестик в драной березке, в стебле пастушьей сумки,
в том, что порхает всего лишь сутки.
Деревня, патриархальный уклад часто возникают в стихах Бродского, словно отзывающегося на суждение А.Платонова: “Из старообрядчества еще неизвестно, что бы получилось, а из цивилизации – известно что”. Не случайно Бродский называл одним из своих поэтических учителей Николая Клюева, ставя его в ряд самых выдающихся русских поэтов ХХ века. Определительны также слова поэта в интервью 1986 года С.Волкову: “…Если меня на свете что-нибудь действительно выводит из себя или возмущает, так это то, что в России творится именно с землей, с крестьянами. Меня это буквально сводило с ума!” Впрочем, это есть тема особого немалого разговора: Бродский и деревня. Или, может быть, так: Бродский и провинция. В поддержку или в качестве вопрошания хочется привести слова петербуржца Федора Достоевского: “Последнее слово скажут они же вот эти самые разные власы, кающиеся и некающиеся, они скажут и укажут нам новую дорогу из всех, казалось бы, безысходных затруднений наших. Но Петербург не разрешит окончательно судьбу русскую”.
Итак, даже плача, вопрошая и не мирясь, поэт произносит гимн Творцу:
Наклонись, я шепну Тебе на ухо что-то: я
благодарен за все; за куриный хрящик
и за стрекот ножниц, уже кроящих
мне пустоту, раз она – Твоя.
Ничего, что черна. Ничего, что в ней
ни руки, ни лица, ни его овала.
Чем незримей вещь, тем оно верней,
что она когда-то существовала
на земле, и тем больше она – везде.
Ты был первым, с кем это случилось, правда?
Только то и держится на гвозде,
что не делится без остатка на два.
Я был в Риме. Был залит светом. Так,
как только может мечтать обломок!
На сетчатке моей – золотой пятак.
Хватит на всю длину потемок.
“Римские элегии, XII”, 1978
Жизнь непременно “качнется вправо, качнувшись влево”. Вправо – к вере, Христу, пока жизнь есть колебание, качание между “право” и “лево”, меж светом и тьмой, небытием и бытием, меж эго и общим. А, в конечном счете, жизнь есть соединение, примирение, синтезирование оппозиций. “Больше не во что верить, опричь того, что покуда есть правый берег у Темзы, есть левый берег у Темзы. Это – благая весть”.
Да, именно так: Благая Весть.
Фома ведь, как помним, был одним из двенадцати апостолов. Да?
Апрель 2000
Источник: http://www.poezia.ru/person.php?sid=16
Кирилл Алёхин
Литовский Бродский
Заметки для потомков
Названием обязали рассуждения писателя и русиста Кейса Верхейла, в далеком 1986 году писавшем по поводу стихотворения «На выставке Карла Виллинка» в амстердамском журнале с гоголевским названием “De Revisor”о том, что «есть голландский Бродский, равно как есть и английский, американский, итальянский, французский, литовский, мексиканский, китайский». Русский Бродский, разумеется, тоже есть. Но речь там шла о тематике стихов и прозы нобелевского лауреата (подробности см. по-русски: «Звезда», 1991, № 8, с. 195-198). А здесь пойдет о другом. О переводах, о рецепции и ее гранях, но главным образом - о том культе Бродского, какой сложился в Литве едва ли не при жизни поэта. Оцените: именной раздел в 50 страниц в школьном учебнике русской литературы для старших классов Розы Глинтерщик (Каунас, 1995), посвященные ему же страницы (и фрагмент «Представления» с комментарием) в предназначенных главным образом для школьников и учителей ее же «Очерках новейшей русской литературы. Постмодернизм» (Вильнюс, 1996), вечер памяти Бродского в апреле 1996 года в Доме Фонда открытой Литвы, достопамятный вечер в июле того же года в Вильнюсском университете с участием Евгения Рейна, Томаса Венцловы и Чеслава Милоша, тексты в хрестоматии «Русская литература в Литве XIV-XX вв.» (Вильнюс, 1998), статьи о нем и переводы его самого в газетах и журналах, радиопередачи Нины Мацкевич и стихи ему. Нет, не только «Ахиллов щит» Венцловы (как можно ожидать), а, к примеру, «Сортирный ноктюрн - 1979» Гинтараса Патацкаса, некогда диссидента, а ныне члена Сейма. На очереди - юбилейная выставка в Национальной библиотеке им. М. Мажвидаса.
В начале юбилейного года на корни этого культа в почтенной, хотя и не самой многочисленной аудитории, указал Пранас Моркус. Он - коллекционер произведений изящного искусства, киносценарист, адресат (и персонаж!) стихотворений Томаса Венцловы и Евгения Рейна, вот хотя бы и вполне виленского «Я был здесь лучше, был здесь, кажется, моложе…» в сборнике «Балкон» (Москва, 1998). И он же - давний знакомый Бродского, наезжавшего в Вильнюс с лета 1966 года.
Так вот «весельчак и бонвиван» из рейновой поэмы «Три воскресенья» уподобил нынешние воспоминания о приездах Бродского в Литву историческим изысканиям о легендарном Палемоне: кто ж там знает, как там было на самом деле, да и было ли? Для тех, кто забыл или никогда не помнил: по запущенной в оборот версии Яна Длугоша (XV век), Палемон с 500 знатнейшими римскими фамилиями прибыл из Рима в устье Немана (то ли по причине несносных тиранств Нерона, то ли из-за многолетней засухи в Средиземноморье, то ли спасаясь от нашествия Аттилы), расселился по брегам его, тем самым заложив основы не то правящей династии, не то всему литовскому народу, - очевидцев не осталось, и если что-то и было, то наверняка совсем не так.
Так и с Бродским: даже если что-то и было… Молодые, влюбленные, кто счастливо, кто несчастливо, трепались обо всем, - а более всего, сказал Моркус, уже приватно, на лестнице, - как удрать из Советского Союза. Ну, еще Иосиф Александрович был истинной фабрикой стихов и без конца сыпал метафорами. Словом, в тех пребываниях в Литве поэта ничего, исполненного особенным значением, не было. Но мифологические сказания уже окутали канувшую обыденную жизнь и продолжают множится: периферия мира чувствительна к подобным посещениям, с благодарностью вспоминает ступавшего по ее земле великого поэта - так же, как берега Дуная помнят об Овидии.
Как тут не вспомнить некстати «Литовский ноктюрн: Томасу Венцлова»: «Звезда в захолустье / светит ярче: как карта, упавшая в масть». В масть, конечно упал и содержательный разговор с Иосифом Бродским Венцловы, состоявшийся в знаменательный для Литвы день 16 февраля (1988 г.). Он под разными названиями печатался по-русски («Страна и мир», «Вильнюс», «Новое время») и по-польски, но вышел сначала на литовском языке, в зарубежном (США) литовском периодическом издании «Акирачяй» («Кругозоры»). Там-то и появилась залепуха о мифических литовских корнях поэта: дескать, мать его, хоть и родилась в Динабурге-Двинске-Даугавпилсе, но чуть не все детство провела где-то в окрестностях какой-то неведомой Байсогалы под Шяуляй, у деда. Более того, кажется, одна из теток знала литовский язык, и, наверное, бабушка тоже его знала. Похоже, свою роль в феномене литовского культа Бродского сыграла и эта не рассеявшаяся до конца мистификация. Удивительным образом на смену ей навеваются неясные сведения о литовских корнях если не самого Бродского, то жены Марии.
В том разговоре гораздо не то чтобы серьезнее, но ответственнее реплика Бродского на напоминание Венцловы о дне беседы: «Я чрезвычайно сожалею, что это просто дата, а не реальность». Нельзя не вспомнить и подписанного Венцловой, Бродским, Милошем энергичного призыва к мировой общественности возвысить голос протеста “against the inhuman Soviet assault on the people of Lithuania”, опубликованного в “New York Times” 15 января 1991 года.
Но вернемся в Вильнюс и в год 2000-й. Почтенная аудитория слушала Моркуса в старинной виленской ратуше, обращенной недавно во Дворец работников искусств, в понедельник 10 января, на вечере под названием «Иосиф Бродский: поэзия и проза». Открыл вечер директор издательства “Baltos lankos” (и семиотик) Саулюс Жукас: повод встрече дала только что выпущенная издательством книга избранных эссе Бродского. На литовском и - с почти тем же названием: “Poetas ir proza”. Составители - Томас Венцлова и Лариса Лямпертене (увы, отсутствовали оба - оба случились о ту пору в США). Тираж (необъявленный, но сообщенный частным порядком) - две тысячи.
Жукас представил публике ведущего Рамунаса Катилюса, - ей, как и читателям статьи «Иосиф Бродский и Литва» («Звезда», 1997, № 1: на Инфоарте не ищите), впрочем, хорошо известного. Физик по профессии, но к тому же старинный, с 1966 года, знакомец поэта и глубокий его почитатель первой слово дал Виде Гудонене. Доцент Вильнюсского педагогического университета поделилась своими впечатлениями о только что прочитанной книге, порадовалась своим находкам, отметила особенности структуры: порядок в книге, действительно, далеко не хронологический, но и не какой-то поверхностно проблемно-тематический, с вообразимыми рубриками, скажем, «О поэзии как таковой», «О русской литературе», «О зарубежных поэтах», ну и, так сказать, автобиографические «Полторы комнаты» и «Путешествие в Стамбул».
На самом деле открывает книгу «Нобелевская лекция» (перевод Сигитаса Парульскиса - по меньшей мере уже второй литовский, о чем ниже). А завершается том в 424 страницы переводом с русского (Сигитас Парульскис) статьи о Марине Цветаевой (1979), какой, казалось бы, самое место по соседству со статьями об Анне Ахматовой (Виолета Таурагене; и этот текст по-литовски уже был, в переводе Юлюса Кяляриса), Осипе Мандельштаме (Лаймантас Йонушис), с переведенным Т. Венцловой с английского некрологом Надежды Мандельштам. На сетования о невнятностях, местами, перевода за всех шестерых переводчиков ответ держать пришлось Довидасу Юделявичюсу. Он начал с любопытного воспоминания о том, как единственный раз в жизни видел Бродского. И не в Литве Советской, а позднее, когда, по его словам, стало возможным и литовцам изредка куда-то выбираться за границу. В 1993 году, за три года до смерти поэта, на книжной ярмарке в Гётеборге. Бродский выступал там в паре с карибским поэтом Дереком Уолкоттом. Говорил о поэзии, и выражался на английском очень свободно. Таков Бродский и в своих писанных по-английски текстах. Юделявичюс признался, что, принимаясь за работу, воображал, будто легче будет справиться, если представлять себе, как переводимый текст выглядел бы на русском. Ничего подобного! Английские сочинения Бродского написаны человеком, думающим по-английски; по крайней мере в них и следа нет некоего русского подстрочника.
Другое дело, что свои переводческие достижения можно сравнить с переводами русскими и польскими. Польские оставляют впечатления свободы: не чувствуется, что это перевод, и не заметно стремления причесать «польского» Бродского под Бродского. А вот русские переводы, даже авторизованные, далеко не всегда удачны.
Редактор тома Виргиниюс Гасилюнас своей особенной заботой посчитал гармонизацию работ разных переводчиков, чтоб не пропал за ними автор: у каждого - свой стиль, свои излюбленные ходы и словечки. Соседствовать под одной обложкой, согласимся, порой тяжело, и не только переводам, но и текстам. А если что-то смущает - так есть и альтернативные переводы («Полторы комнаты» Линаса Вильджюнаса, «Путешествие в Стамбул» Евы Петраускайте, «Нобелевской лекции» Альфонсаса Буконтаса), и возможность обратиться к русским и английским оригиналам.
Стихи Бродского читал актер Римантас Багдзявичюс, как показалось - очень похоже на чтение самого поэта. Но в переводах Сигитаса Гяды: томик их должен вот-вот выйти в том же издательстве “Baltos lankos”. А в оригинале и в авторском исполнении они звучали тоже, в записях из коллекции, кажется, Рамунаса Катилюса, в конце и в начале вечера. По этому поводу, кстати, поделилась воспоминанием-впечатлением Ирена Вейсайте. Ей тоже довелось раз в жизни видеть поэта, и тоже заграницей: в Лондоне отмечался 100-летний юбилей Осипа Мандельштама, и Бродский читал его стихи в своей манере, так, что всезавладевающая мелодия убаюкивала, отключая содержание слов. Мандельштама вспомнил и Пранас Моркус. Ведь еще до Бродского мог и этот великий поэт стать в каком-то смысле литовском и дать Литве то, что он дал Армении. Действительно, посол Литвы в Советской России и русский поэт Юргис Балтрушайтис, предчувствуя, какой конец ждет Мандельштама, еще в 1921 году уговаривал его принять литовское гражданство - и спастись в Литве. Основанием могло стать происхождение семейства из местечка Жагоры (Жагаре) Ковенской губернии, да и отец родом из Шяуляй (помните родственницу «из местечка Шавли» в «Шуме времени»?), мать - из Вильнюса. Поэт начал было собирать необходимые бумаги, но оставил затею из убежденности в том, что от судьбы уйти нельзя, как вспоминала Надежда Мандельштам. В мечтах о том, что было бы, случись поэту уехать в Литву (и здесь остаться, а не промелькнуть на Запад, как это было с Сашей Черным, например), по словам Моркуса, в молодые годы приходилось останавливаться на июньских днях 1941 года и радоваться, что хотя бы эта смерть не ложится тяжким грузом на совести нации.
Что до готовящегося сборника Гяды, то два месяца назад в Вильнюсе же, в зале Еврейского музея, был представлен двуязычный сборник Бродского «С видом на море» (издательство “Vyturys”). Выпущен, как и том эссе “Baltos lankos”, при поддержке Фонда открытой Литвы (литовский «Сорос»). Тираж и здесь не объявлен, но, если верить на слово, четыре тысячи; для сравнения - аналогичный, чуть потоньше, томик Ахматовой в том же издательстве пять лет назад вышел в трех тысячах экземплярах. Включены в книгу Бродского переводы с русского Гинатараса Патацкаса, Томаса Венцловы, Маркаса Зингериса двадцати восьми стихотворений и фрагментов «Части речи» из пяти книг поэта. И кто бы сомневался, что многие переводы Гяда вступят в естественную конкуренцию с вошедшими в составленный М. Зингерисом сборник.
Но вряд ли одна книга превзойдет другую. Взять два этих последних тома: как одинаково качественно, но по разному дают они одного и того же автора читателю. “Vyturys”: стихи на двух языках, на литовском языке - предисловие Витаутаса Кубилюса «Автономия поэтического слова», статьи, биографические и с прекрасной мемуарной отделкой, Рамунаса Катилюса и Томаса Венцловы, и послесловие составителя, плюс подготовленная Р. Катилюсом библиография Бродского и литературы о нем, да еще три десятка фотографий, рисунки, черновики (заслуживает быть отмеченной корректность!) с грамотной метрикой, с указанием авторов и владельцев снимков и автографов. На корешке и обложке: Josifas Brodskis.
И свой шик у “Baltos lankos”, издательства, так сказать, повышенной культуры книги, с узнаваемой благородной академической щеголеватостью: лишь на суперобложке использована фотография Марианны Волковой, а в самой книге - ни одного чужого слова. Ни вступлений, ни послесловий, без индексов и примечаний. Один Иосиф Бродский. На сей раз - Josif Brodskij.
Источник: http://www.russianresources.lt/dictant/Materials/Brodsky.html

Окна из алюминия в Севастополе — это новые возможности при остеклении больших площадей и сложных форм. Смотрите отзывы.
Страницы сайта поэта Иосифа Бродского (1940-1996)Коллекция фотографий Иосифа Бродского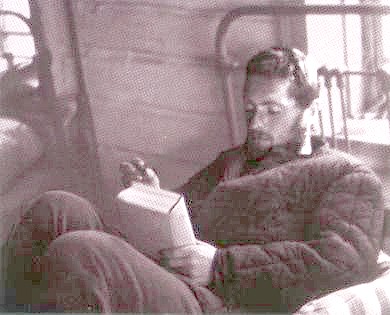
Замечательная книга и радостный труд по ее усвоению! Жалко, что Иисус Христос не читал латинских поэтов. Теоретически, он мог бы знать их язык, поскольку жил на территории Римской империи. Так что возможность у него была. С другой стороны, Понтий Пилат тоже был не большой любитель поэзии. Если бы он читал стихи, и прочёл бы, в частности, вергилиевы эклоги (которые вышли на добрых семьдесят лет раньше событий в Иерусалиме), он наверняка внимательней отнёсся бы к сказанному Иисусом. Пилат мог бы признать в приведённом к нему человека, чьё явление было предсказано, как полагают некоторые учёные, в четвёртой эклоге вергилиевых “Буколик”. В любом случае, если бы он знал это стихотворение, то мог бы усомниться настолько, чтобы спасти человека. С другой стороны, Иисус, знай он это стихотворение, мог бы добиться для себя лучшей участи. Но так уж повелось, что те, кому следует читать, не читают, тогда как те, кто читает, ничего не значат. Ни Иисус, ни Пилат не знали четвёртой эклоги, и это отчасти объясняет наше нынешнее безотрадное положение. Чтение поэзии оберегает от многих ошибок; чтение Вергилия делает это наилучшим образом. Без него наша цивилизация просто немыслима. Мы и наш способ мышления во многом лишь следствие, причина которого покоится в строках этого поэта. Возможно, Иисуса он бы не спас; но именно он, Вергилий, шестой книгой своей “Энеиды” вызвал к жизни “Божественную комедию” Данте. Что, в некотором смысле, примиряет нас с неведением и Пилата, и Иисуса. Константин Плешаков: Похоже, по-настоящему ему отравляло жизнь только одно: поголовная болезнь американской молодежи — беспробудное невежество. Однажды, как видно выведенный из себя особенно безнадежным классом, Бродский сел за машинку и наспех составил «Список книг, которые должен прочесть каждый». Он сохранился у Эдвины Круз. (Попутная реплика АНК: что-то, похоже, действительно порочно в американском образовании, хотя эта страна знаменита и великими писателями, учеными, артистами, музыкантами, промышленниками, финансистами, менеджерами, кинорежиссерами, продюссерами, программистами и т.д. - во всех этих областях требуется острый, как бритва, интеллект. Вот точка зрения Олега Платонова: "Неудивительно, что американская система воспитания и образования плодит духовных идиотов. Ни в одной другой стране не увидишь столько тупых, бессмысленных лиц, как в США. Человек, сумевший в этих условиях сохранить чувство доброты и совестливости, в лучшем случае инфантилен и не способен, если понадобится, защитить свои добрые чувства. Американцы - самые неинтересные и скучные собеседники, их интересы почти всегда вертятся вокруг четырех вещей: деньги, покупки, машины и секс. До половины американцев, окончивших среднюю школу, функционально неграмотны, т. е. не умеют нормально читать и писать. Опрос большой группы учащихся выпускных курсов университетов показал, что каждый четвертый не способен назвать времени открытия Америки с точностью до полувека; один из четырех не в силах отличить сочинения Карла Маркса от Конституции США, сорока процентам не известен год начала войны между Севером и Югом". Список книг, которые должен прочесть каждый Судя по автографу, список составлен вчерне и наспех, кое-где значительно поправлен Бродским. Понятно, что он неполон. Однако некоторые выпускники, его бывшие студенты, все еще работают по нему. Источник: http://br00.narod.ru/10660012.htm Искусство цвета серой воды Стравинский -- Баланчин -- Набоков -- Бродский П.Г. Все это чрезвычайно волнительно. Но поскольку мы находимся в Мариинском театре, танцовщиком которого Баланчин был и балетную школу которого закончил, я хочу понять, как подготовить интеллектуальную атмосферу в артистической среде, чтобы устойчивый культ Петипа в этом театре дополнился еще и культом Баланчина? Или это утопия? С.В. Боюсь, что да. В книге о петербургском культурном мифе я попытался написать о великой тройке -- впрочем, сегодня она превратилась в четверку -- великих модернистов ХХ века, выходцев из Санкт-Петербурга. О Стравинском, Набокове, Баланчине и Бродском. Все четверо уехали из России по разным причинам. Стравинский удрал даже не от царской бюрократии и не от большевиков -- в первую очередь от академической школы Римского-Корсакова. Набоков уехал потому, что здесь ему делать было нечего. Баланчин -- от голода. Ситуация Бродского известна. Внешние обстоятельства разные, но итог один -- они уехали. И это не случайно. Петербург дал каждому феноменальную закалку -- и эстетическую, и этическую. У каждого в этом городе остались прямые или косвенные учителя. У Стравинского -- Римский-Корсаков, у Бродского -- Ахматова, у Баланчина -- Петипа и его школьные учителя Андрианов, Гердт. Каждый оставался до конца преданным этому городу. Но не случайно, что город в итоге их всех выпер. Просто каждый их них, будучи продуктом петербургской эстетики, все время выскакивал за ее границы. Каждый стремился делать то, что здесь восторга не вызывало: Римский-Корсаков вряд ли одобрил бы то, что делал Стравинский, Ахматовой вряд ли понравились бы поздние стихи Бродского... П.Г. Вы хотите сказать, что Петипа не принял бы "Серенаду", "Агона" или Symphony in C? С.В. Сложно сказать. Петипа -- иностранец, наемник, западный человек... Каждый из этих людей сделал решительный шаг в сторону того, что во все времена в России с очевидным оттенком неодобрения называлось "космополитизмом". П.Г. Каждый создавал универсальный канон искусства ХХ века. С.В. Они взрывали изнутри петербургский канон. И нарывались на крупные неприятности -- их достижения отторгались приверженцами этого канона. Но становились катехизисом для всего мирового современного искусства. Это случилось со Стравинским: в Америке каждый второй композитор в области т.н. "современной" музыки так или иначе ученик Стравинского. Среди американских писателей рассылаются анкеты с вопросом о влиянии -- каждый третий называет Чехова, каждый четвертый -- Набокова. Бродский вообще занялся делом, которого в Америке как бы не существует: вакансии поэта, как ее понимал Пастернак, в Америке нет, а Бродский эту вакансию занял, вызывая поначалу недоумение и раздражение своим темпераментом, криками, своей еврейской напевностью, своими идеями о том, что американские студенты должны заучивать стихи наизусть, что было воспринято как покушение на права личности. Но Бродский настаивал... П.Г. А что Баланчин? Я разговаривал с ведущими американскими критиками: с Киссельгоф, с ее оппоненткой Кроче, с их молодыми коллегами -- все сходятся на том, что после Баланчина американский балет погрузился в депрессию. С.В. Ситуация Баланчина аналогична ситуации каждого из этих петербургских гениев. Можно ли писать музыку после Стравинского? Появился ли в русской прозе прозаик, равный по силе Набокову? Есть ли поэт, который может рассчитывать на трон Бродского? Это проблема скорее биологическая... Я хорошо знаю, что говорят Киссельгоф и Кроче, часто слышу от них это нытье. Ответ один: Баланчин умер, но существует ли театр Баланчина? Да. (Впрочем, Баланчин говорил, что ему плевать, что произойдет с его театром и балетами после смерти.) Не забывайте, сколько лет Баланчин сидел в логове манхэттенской элиты, и все эти люди -- Кроче, Киссельгоф -- имели к нему прямой доступ. Сегодня нет Баланчина, нет Керстайна. У Питера Мартинса новый двор. Старая элита отсечена, потому она недовольна. Нет больше трепета, сопровождавшего баланчинские премьеры, когда казалось, что присутствуешь при рождении Афродиты из пены морской. Источник: http://www.musiccritics.ru/?id=3&readfull=3724 ТРЕТЬЕ ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ФОМЫ? ПРЕТЕНЗИИ К ГОСПОДУ. БРОДСКИЙ И ХРИСТИАНСТВО*Станислав Минаков2003-10-21 10:25:52 |
| Ранее |
|
Деград

